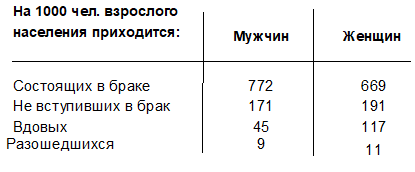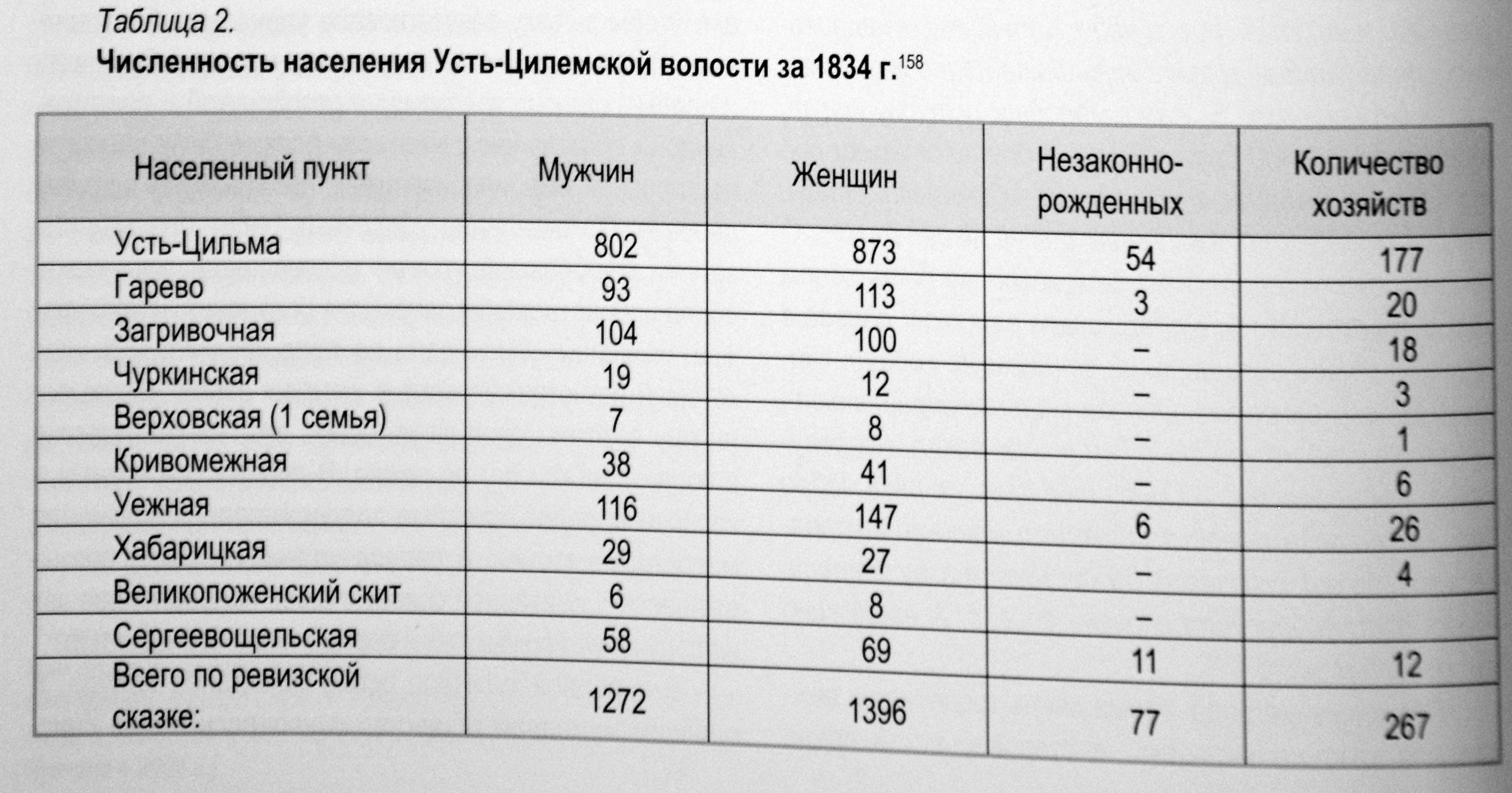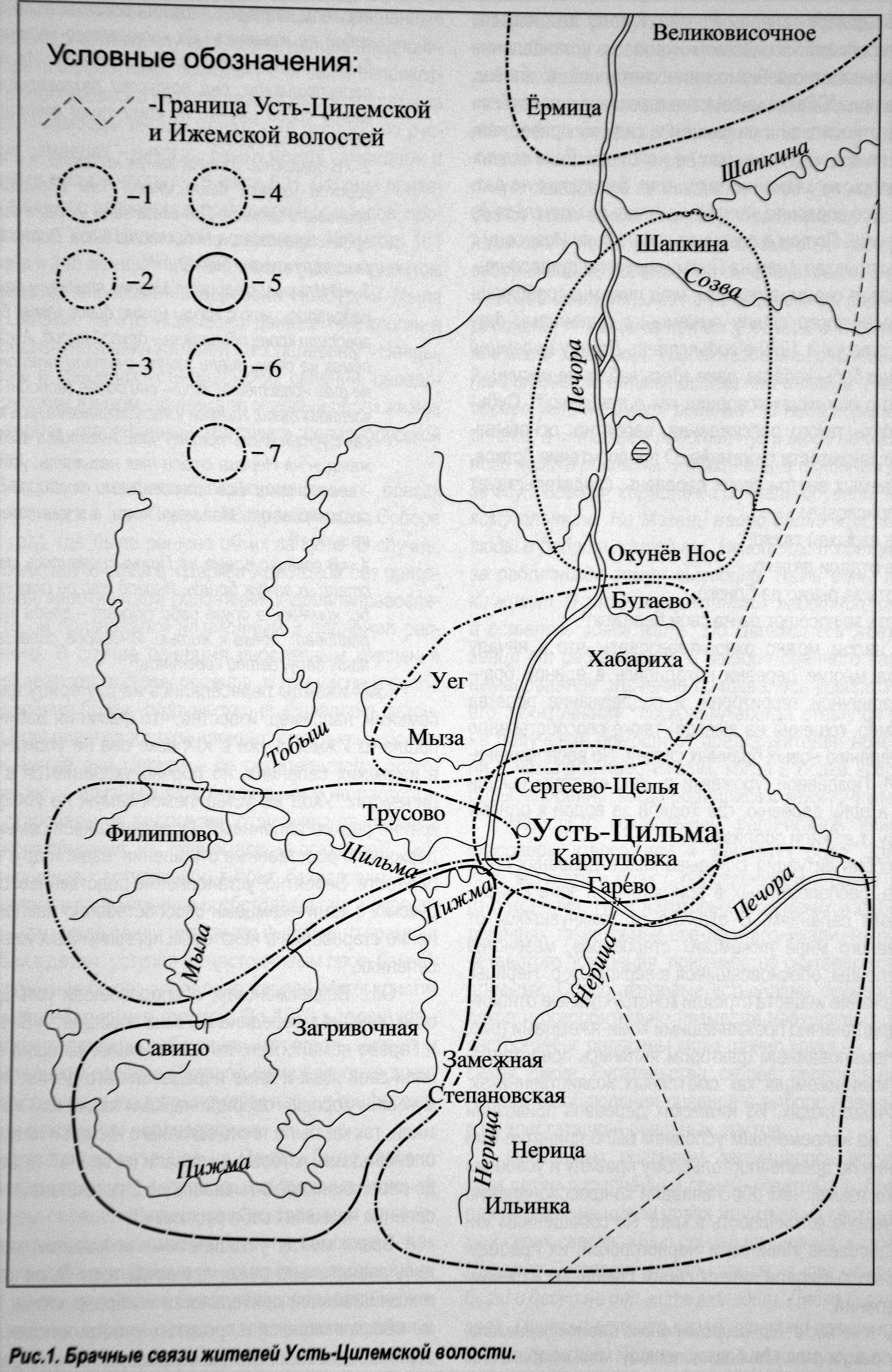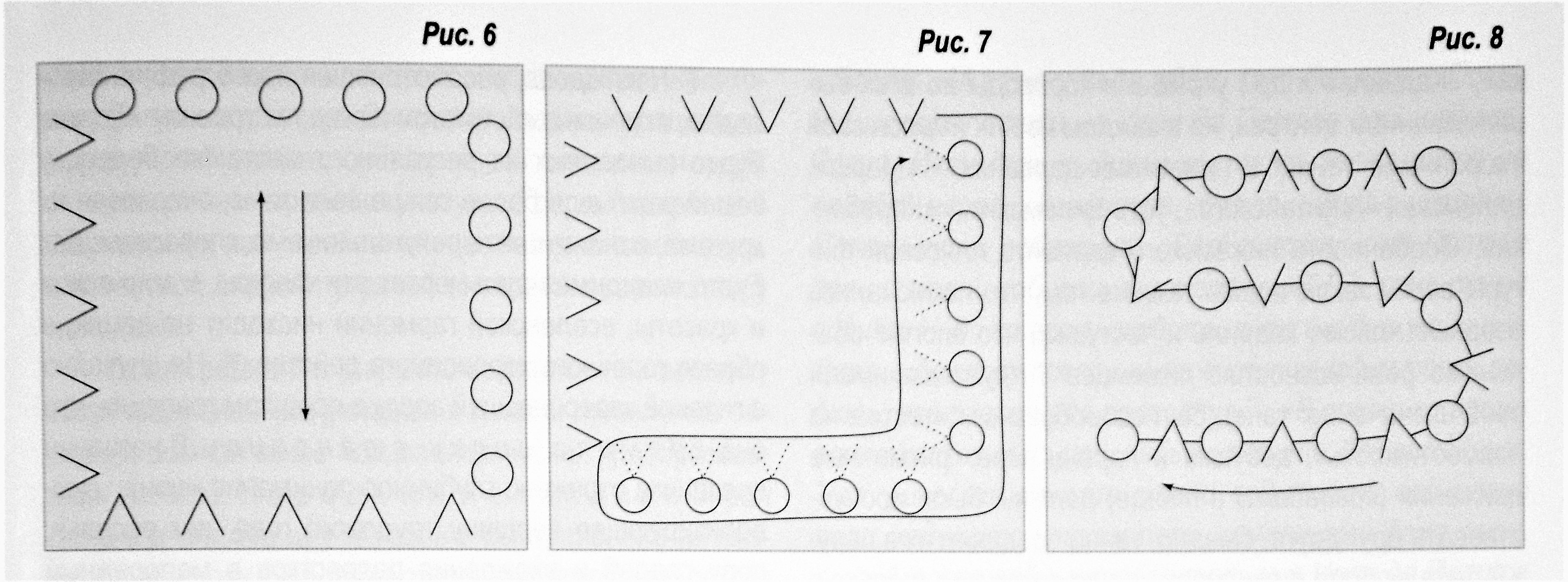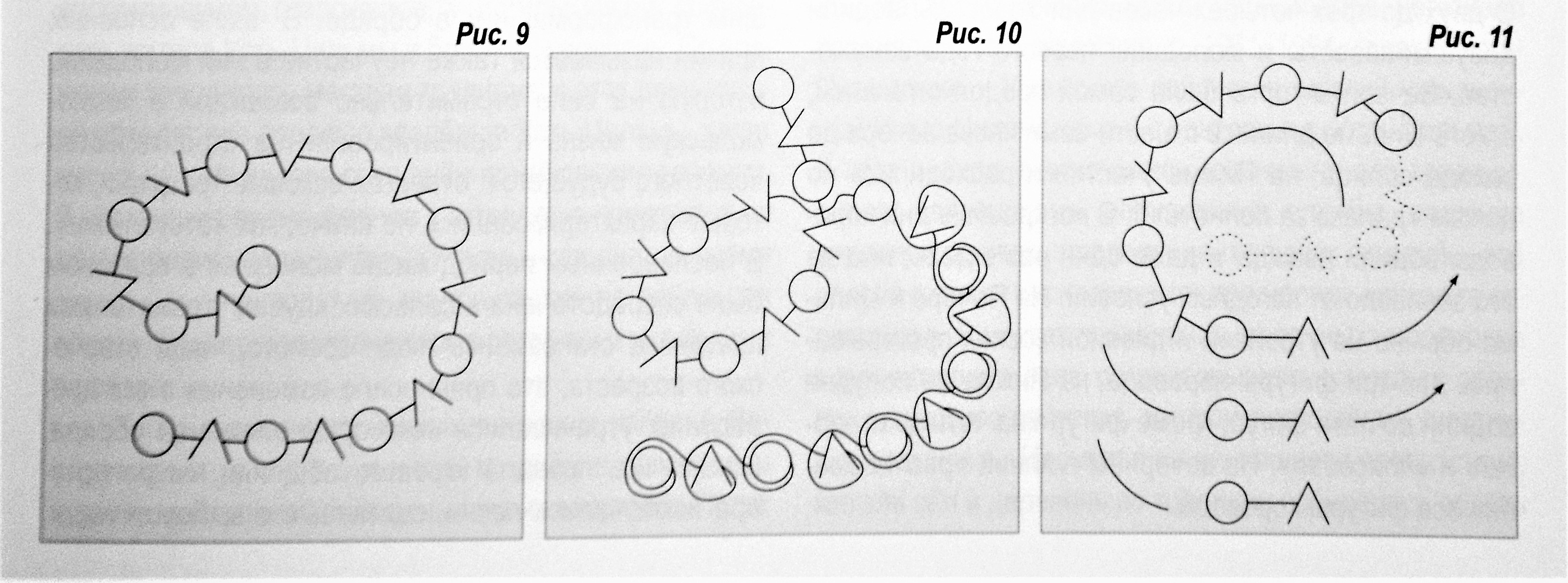Дополнено 20.12.2020 г.
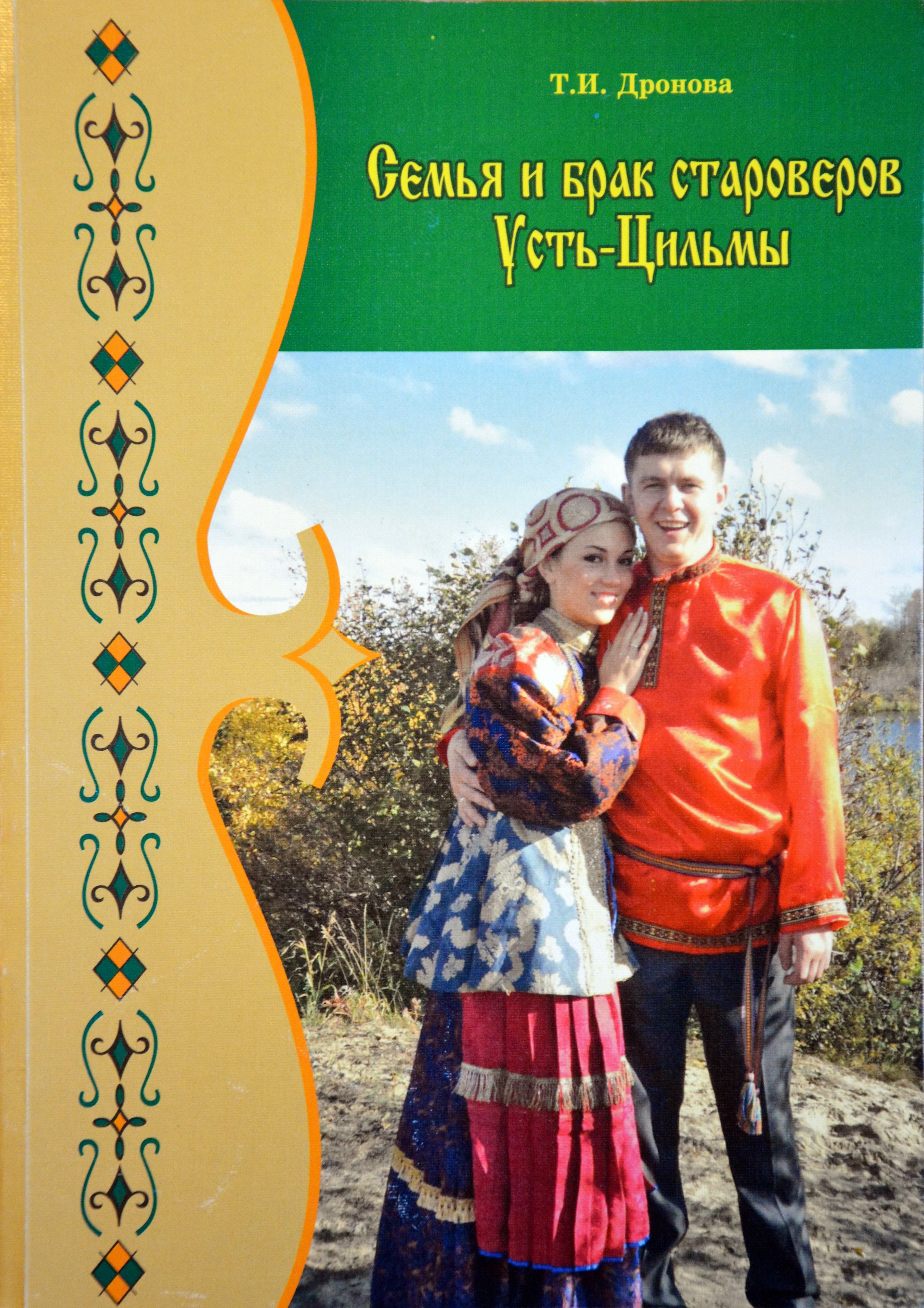
Глава 1
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ СТРОЙ
§ 1. Образование больших и малых семей
До середины XVIII века Усть-Цилёмская слободка была в числе двух русских поселений на Нижней Печоре. О раннем периоде её развития сведения скудны, в частности, о численном составе мужчин в семье сообщается в материалах первой ревизии 1719-1723 годов. Всего по данным 1722 года в слободе насчитывалось 229 душ (мужского населения), 17 больших семей, 26 – малых (из них прибывших в Усть-Цильму на момент переписи 1719 года – 11 семей; 1721 году – шесть семей). В числе переселенцев указаны выходцы с Кевролы, Пинеги, Мезени, «Пучемской деревни», «Белощёнской деревни». По итогам второй ревизии (1745 год) новых поселений в окрестностях Усть-Цильмы также не выявлено, и только во второй половине XVIII века отмечены четыре новые деревни, о чём становится известно из материалов четвёртой ревизии (1782 год). По её итогам, всего насчитывалось пять селений: с численностью два-три дома – одно селение; четыре-шесть домов – два селения; семь-десять домов – одно селение; 31-45 домов – одно селение. Число домов с избой и клетью –140, число семей бездомовых – 14; домов без клети нет. Население по ревизии 1782 года насчитывает 148 дворов, мужчин 477, женщин – 563, всего – 1040 человек (в графах «в том числе раскольников» стоит прочерк). Бобыльих дворов – 14, в них душ, не имеющих земельного надела и в силу этого не несущих государственных повинностей, –13.
Массовое образование выселков и деревень по Нижней Печоре и притокам Цильме, Пижме, Нерице приходится на середину XIX века; фиксируется до 1930-х годов. До конца 1700-х годов все селения с центром Усть-Цильмой располагались в прибрежной полосе в пределах 20 вёрст (мотив выселения – близость к пахотной земле); в последующие 100 лет – в пределах 40 вёрст (обилие пожен и близость к рыболовным озёрам и тоням); 30-60-е гг. XIX века – 160-170 верст (исключительно из-за удобства пользования рыболовным тонями и озёрами, местами охоты на птицу). В 1920-1926 годах переселения крестьян в пределах Усть-Цилёмского волостного исполнительного комитета происходили по причине «тесноземелья» и были немногочисленными: из Пижмы на Печору прибыло восемь семей, осевших в пределах Росвинского и Ермицкого сельсоветов; в Бугаевский и Росвинский поселения переселилось свыше 30 семей, многие селились на необжитых местах.
Формирование больших и малых семей у печорских крестьян в ХIХ-ХХ веках было обусловлено миграционными процессами, производственной деятельноcтью, образованием деревень и численностью населения. По данным ревизской сказки 1834 г., в Усть-Цилёмской волости упомянуто 10 селений, а общая численность населения в них составляла 2668 человек (1272 муж. и 1396 жен.). Переселенцы, мигрировавшие в пределах Усть-Цилёмской волости, переселялись как большими, так и малыми семьями. Осваиваясь на местах, представители больших семей не спешили разделяться на малые семьи и сохраняли большую семью – важнейшего условия для выживания и дальнейшего развития, представленную единым трудовым коллективом с общим имуществом; и только приданое невесток оставалось их личной собственностью. Преобладали отцовская и братская семьи с различным численным и поколенным составом. Средняя численность семейства равнялась 10-17 человек, в котором могли проживать родители с детьми, внуками и правнуками; женатые братья с семьями; женатые братья и сестры, причём сестра могла быть как одинокая, так и с внебрачным ребенком.
Сохранение больших семей зависело и от вида хозяйствования. Там, где население занималось земледелием, дольше сохранялись неразделённые семьи, поскольку того требовала организация труда. В более северных, преимущественно промысловых, селениях разделение на малые семьи происходило быстрее. В пределах проживания семьи расчищалась тоня, чаще называвшаяся по имени главы хозяйства, например, «Васина тоня», которая содержалась им и его детьми. Рыболовство характеризовалось как семейное дело, артелью чаще рыбачили «у моря», куда отправлялись весной и возвращались поздней осенью. На своей тоне занимались ловлей представители данной семьи, посторонние рыбаки должны были предварительно получить разрешение. Главной проблемой малой промысловой семьи была преждевременная смерть кормильца, а это явление было нередким. В этом случае женщина имела меньше шансов повторно выйти замуж, она становилась рыбаком и охотником, вынуждена была выживать самостоятельно. О разнице в численном составе мужского и женского населения свидетельствует С.В. Мартынов: в 1903 году на 1000 мужчин приходилось 1058 женщин, при этом отмечается, что вдовцы во вторичном браке значительно чаще женятся на девицах и реже берут вдов (табл. 1).
Таблица 1.
Данные о гражданском состоянии на 1903 г.
Формирование так называемых «примачных» семей происходило в малых семьях, когда дочь являлась единственным ребёнком или все дети были женского пола. В этом случае одна из дочерей оставалась в родительском доме, и её муж приходил на проживание в дом тестя/тёщи. Например, в д. Конахино в нач. XX века из 18 семей в четырёх проживали примаки, а к 1950 годам в той же деревне насчитывалось уже девять таких семей. Женившись на дочери хозяина, примак становился работником и выполнял все его поручения, а после смерти тестя – главой семьи и наследовал имущество.
Как и повсеместно, создание семьи определялось экономическим расчётом: получение дополнительного работника или работницы приветствовалось всегда, особенно, если невестка происходила из обеспеченной семьи. В этом случае родители наделяли дочь богатым приданым, состоявшим как из её личных вещей, так и скота, и инвентаря. При необходимости можно было воспользоваться помощью новой родни.
В новой семье видели продолжение рода. Только женатый мужчина становился полноправным членом общины с правом голоса, а замужняя женщина получала жизненную поддержку, становилась хранительницей традиций и обеспечивала их транслирование.
До середины XX века семьи были многодетными. На Печоре рождение детей приветствовалось, особенно желанными были мальчики – продолжатели родов; на каждого сына в год выделялось по три-четыре дерева из строительного леса и единовременно – земля. На девочку же смотрели как на «лишнее лицо» в доме,
поскольку с отроческих лет для неё уже необходимо было готовить приданное, о ней говорили: «Что она съест, то не вернётся в дом». Девочек редко хвалили, их принято было отдавать в няньки – в этом случае их напутствовали: «Пошла кормиться, нечего торопиться», т.е. им запрещалось преждевременно отпрашиваться у хозяев обратно в семью; следовало находиться «в няньках» до тех пор, пока в ней нуждались. Таким образом, семья освобождалась от едока, не приносящего дохода семье – лишнего рта. По рассказам, иные девочки годами жили «в людях». Иные прекращали работу в няньках в подростковом возрасте, когда могли наравне со взрослыми женщинами в семье заниматься рукоделием, в частности, вязанием – самым распространённым женским трудом, имевшим товарный характер. Только тогда их прекращали укорять.
Несмотря на то, что женщины рожали по 10–15 детей (бывало и более), выживало в среднем четверо-пятеро детей. Смерть младенцев не вызывала большого горя у усть-цилёмских матерей, что, с одной стороны, связывалось с религиозными воззрениями о благе безгрешной души, с другой – житейским рассуждением о том, что дети «дело наживное». Высокий процент детской смертности связывался с отсутствием медицинского обслуживания и небрежным отношением к младенцам – об этом писали путешественники, исследователи на рубеже XIX-XX столетий. С.В. Мартыновым была опрошена 71 женщина, у которых в совокупности было 639 детей, из них умерло 424, таким образом смертность составила 66,1%. Иррационально истолковывались болезни, например, нервозность младенца объясняли вселением в него злых сил, которых изгоняли радикальными способами: окунали дитя в ледяную воду или опрыскивали ею через уголь до судорожного состояния ребенка. Информанты уточняют, что выживали сильнейшие, становившиеся долгожителями.
Распространённым явлением было брать на воспитание детей/племянников из многодетных семей или оставшихся сиротами. До 1960-х годов практиковалось усыновление бездетными семьями детей из многодетных малообеспеченных неродственных семей, к чему староверы относились с одобрением и в дальнейшем семью рассматривали как полноценную. М.Я. Дуркин, врач районной поликлиники, рассказывал: «Даже в 1950-е годы иногда прямо из больницы забирали таких детей и увозили в другую деревню. Сельские жители видели в этом спасение и для многодетной семьи». Традиция усыновления детей возобновлена в настоящее время.
Большой проблемой была гибель мужчин на промыслах и раннее вдовство женщин. В большой семье, в доме мужа, в случае его преждевременной смерти, оставалась жена с детьми (если до этого она имела детей от первого брака, они продолжали жить с ней); бывало, что впоследствии она становилась старшей в семье и могла возглавить её. В случае, если вдова оставалась с тремя и более детьми, то становилась обузой для родителей мужа и его братьев, тогда спустя год свекровь подыскивала ей мужа и выдавала невестку замуж. В редких случаях женщина с детьми возвращалась в дом родителей или родители мужа насильно выселяли её из своего дома. О бытовании последнего варианта становится известно из погребального плача, фрагмент из которого привожу:
Р а з л у ч и л и н а с с т о б о й д а з л ы в р а г и (здесь и далее разрядка моя — Т.Д.),
Злы враги да супостатники.
М е н я о д н у б е д н у д а о с т а в и л и,
Одну бедну да одинёхоньку,
Одинёхоньку да молодёхоньку,
С о к о р м и л ь ц е м д а я с н ы м с о к о л о м,
С о д и т ё м м е н я д а с е р д е ш н ы и м,
С т о й п о р ы д а ж и в ё м м а и м с е,
Маимсе да м ы п о з о р и м с е.
Богоданный мой да с в ё к о р — б а т ю ш к а,
П о в ы г н а л м е н я да вон н а у л и ц у,
Из вита гнезда да золота кольца,
Уходили мы по чужим да по витым гнездам,
Потом о н у б р а л от нас да всё и м у ч е с т в о,
Богоданный мой да свёкор-батюшка…
Между тем, такие случаи были исключительными, и как бы ни складывались взаимоотношения между невесткой и родителями мужа, последние содержали вдову и растили внуков сообща. Такое положение сохранялось и в XX веке. Наиболее типичными были годы Великой Отечественной войны, когда детей-сирот брали на воспитание ближайшие родственники и проявляли равную заботу о своих и приёмных детях. Рассказы о больших семьях отражают коммуникабельность их представителей, способных уживаться в самых непростых условиях. Говорили: «В большой семье жили не углами, а умами». Неразделённая семья являлась залогом благосостояния, самостоятельности и авторитета в общине.
В усть-цилемских селениях процесс разделения большой отцовской семьи начался в последней трети XIX века. Главной и определяющей причиной тому было разрастание состава семьи: «Раньше семьи были большие. В одном хлеби жили три-четыре семьи. В большой семье было легче копить богасьво, разживать хозяйство. Мальчики рождались, дэк на них шёл надел. Как хозяйство прирасширится, дети в семьях подрастут,

Фотографии из семейного альбома рода Лёвкиных. Сидят: Пётр Осипович и Агафья Александровна Носовы и их дети. Стоят: Агафья Петровна и Анна Осиповна Носовы. Подпись на фото: 1916 года декабрь 13-го. Присылаем карточку. Любимая вами семья. На память дорогому супругу Петровану Осиповичу Носову. Смотри и не забудь нас горьких нонь сирот. Супруга Агафья Александровна (фото было отправлено мужу, призванному на Первую мировую войну).
самый смелый сын с семьёй будет просить раздела. Ему общими силами строили дом и выделяли часть хозяйства: скот, косу, грабли, сани, одежду. Если все сыновья вдруг хотели отдельно заживаться, то по старшинству: пока старшему строили дом, потом другим. Младший сын – тот жил с родителями. Большу семью называли по деду или отцу: род Фёдора Степанковых, род Фили Якуниных, Дёмыных, Иванковых…». В случае раздела строили один большой (двухэтажный) дом для двух братьев, в котором жилая и хозяйственная часть с поветями находились под одной крышей; выделяли скот, инвентарь. Сообща было легче управляться с хозяйственными делами: трудоёмкую работу – строительство, сенокос, заготовка дров, рыбная ловля – семьи выполняли вместе. Например, при разделе большой усть-цилёмской семьи рода Глухиных было построено три двухэтажных дома. Как и повсеместно у русских, по обычному праву, в отчем доме оставался жить младший сын с семьёй и родителями. В том случае, если он желал возводить новый дом, то должен был получить на это согласие стариков. Ещё в середине XX века эта традиция сохранялась, обычно строительство начинали только после их смерти. По полевым материалам в XX века всё имущество принадлежало семье, распорядителем являлся её глава. В случае его безвременной смерти, чаще гибели на промыслах, наследницей главы дома становилась жена.
Разделение большой семьи можно проследить по различным фамильным материалам. Т.Д. Вокуева, основываясь, кроме того, и на архивных данных, полагает, что со второй половины XIX века в Усть-Цильме появляются уличные прозвища, приобретшие на Печоре значение «родового прозвища». Их образование связывается с процессом разделения большой семьи, в ходе которого образовывалось большое количество однофамильцев, и, чтобы избежать в дальнейшем инцеста к фамилии добавляли имя основателя малой семьи (например, Ермолины рода Сениных, Булыгины рода Ваниных и др.). Кроме того, прозвище могло указывать на какую-либо особенность представителей рода (например, Глухины, т.е. страдавшие глухотой, Богатырёвы – отличавшиеся крепостью телосложения и могучей удалью и др.). В настоящее время лишь в с. Усть-Цильма выявлено свыше 120 активно используемых фамильных прозвища. «В кажной деревни рода жили. У нас Коровий Ручей раньше Ивановой деревней называли. Жили род Дёмыны, Богатыри, Митины, Железняковы, Алёшкины, Старцевы, Ларины, Игнахины. Усадьбы были за домами на горе и поля называли по имени хозяина: Алёшкино поле, Игнахиных поле, а пожни были за рекой, тоже так назывались. Там тоже дома были настроены, сенокосили, со скотом жили. На месте Коровьего Ручья было четыре деревни: Иванова, Ипатовых, Алексахова ишшэ онна была… и у кажной своё кладбишшэ было. Три ныне есь, а четвёрто – гору обвалило и в реку на берег ушло, потом кости перезахоронили на нонешном кладбище». Для деревень, расположенных на правом берегу р. Печора, с центром Усть-Цильмой сохранялась, а в некоторых деревнях и ныне поддерживается традиция захоронения по родам.
§ 2. Хозяйственная деятельность семей
Усть-цилёмские селения расположены в приполярной зоне, характеризуемой как область рискованного земледелия. Переселенцы, прибывшие в середине XVI века оказались в крайне сложной ситуации: необходимо было адаптироваться к суровым климатическим условиям Крайнего Севера лесотаёжной зоны и приступать к освоению качественно иной экологической ниши. На начальном этапе охота и рыболовство становятся основным видом занятости населения. Вместе с тем постепенно осваиваются и другие виды хозяйственной деятельности: животноводство и земледелие. Развитию животноводства благоприятствовали обширные площади пойменных, заливных лугов, пригодных для заготовки сена и выпаса скота. Занятию земледелием не придавалось большого значения, но в силу удаленности края и бездорожья, затруднявших поступление в край зерновых культур, устьцилёмы были вынуждены сеять ячмень, вероятность вызревания которого была не велика: «Хлебу у нас недород часто бывает, а сеем только один ячмень, и то небольшую часть для того, что у нас лето короче теплых стран. До морозу родиться не всегда может, а когда же морозом побьёт, тогда весьма плохо бывает, иногда есть не можно. В прошлое 1765 лето морозом побило, так что не оставило во многих домах на один день пропитание». О хлебных неурожаях в Усть-Цилемском крае писали и путешественники XIX—XX веков. В конце XIX века 96% всех засеваемых площадей приходилось на ячмень, и лишь 4% приходилось на рожь, картофель, репу, редьку. Частые неурожаи вынуждали устьцилёмов закупать хлеб у чердынцев, приезжавших в край с различной продукцией.
В XIX веке основным видом жизнедеятельности становится животноводство, представлявшее собой товарную отрасль хозяйствования (мясо-молочная продукция, овечья шерсть, шкуры крупного рогатого скота и лошадей), и использовавшееся для собственных нужд в качестве тягловой силы. Обилие заливных лугов, ценившихся выше боровых, способствовали разведению различных видов скота, особенно дойных коров: «Ни в одном месте Архангелогородской губернии не приготовляется столь вкусное коровье масло, как в сих местах, изобильных сочною и самою лучшею травою, где делать можно сыры не хуже голландских». Сенокосные и пахотные земли находились в душевом (общинном) и заимочном (индивидуальном) владении. Индивидуальная форма владения была характерна для селений, находившихся на значительном удалении от волостного центра.
В суровых северных условиях содержание скота было стойловым (восемь-девять месяцев в году); в весенне-осенний период скот держали на вольном выпасе без пастухов. Продолжительные зимы требовали больших запасов сена, которое получали с заливных, расчистных лугов. В XVIII—XIX веках заготовленное сено обмерялось «количеством вытей» с пожни – числом кормлений скота; в XX веке – количеством возов. В среднем для одной коровы требовалось заготовить не менее трёх тонн сена, что составляло примерно девять конских возов.
По статистическим данным 1903 года, из 1162 хозяйств края 1067 имели скот и из них лишь 4 хозяйства не занимались заготовкой сена; в среднем на одно хозяйство приходилось 5, 7 голов скота, всего по волости –11864. Из них рабочих лошадей – 2049, нерабочих лошадей – 377, жеребят – 335, дойных коров – 2594, быков – 461, нетелей – 444, телят –1216, овец – 4388. В крестьянских хозяйствах, где занимались отхожими промыслами, имелось не больше одной коровы; хозяева занимались частичной заготовкой кормов, а недостаток сена восполняли от крестьян, заготавливавших сено на продажу. В крепких хозяйствах, где общее поголовье скота достигало 15—20 голов, сенокосные угодья составляли 3040 гектаров земли.
В летнюю пору заготовка сена являлась главным видом занятий крестьян. Поженные луга печорских селений расчищались от леса преимущественно на противоположном берегу реки и по притокам малых рек и находились в заимочном землепользовании до 1930-х годов (коллективизации). Являясь родовыми сенокосными угодьями, все они имели названия: от имён крестьян, занимавшихся расчистками лугов (Конахин, Демешкина, Евдокимов и др.), а также по месту расположения (у Замалого, Промой и др.).
На расчистках образовывались хутора с численностью до пяти-семи домов с хлевами и подсобными строениями, куда выезжали целыми деревнями сразу после вскрытия рек и жили до окончания уборочных работ. Крестьяне, не имевшие личного сенокосного жилья, арендовали жилую площадь, расплачиваясь за неё мясо-молочной продукцией. Место возведения сенокосных домов называлось огнище. Хозяйства, в которых общее количество поголовья скота превышало десять, проживали на сенокосных угодьях до начала зимы и возвращались обратно в деревню уже после ледостава (оставались осеновать), что объяснялось рядом причин: сокращалась вывозка сена и это освобождало крестьян для других работ; проживая на хозяйственных угодьях, устьцилёмы на местах занимались осенней охотой и рыболовством. В этом случае после завершения сенокосных работ взрослые возвращались в деревню и начинали уборочные работы, а старики с подростками оставались со скотом осеновать. Такой способ весенне-осеннего содержания скота отличал усть-цилёмские хозяйства от хозяйств других селений, расположенных в Заполярье, население которых не занималось земледелием.
Несмотря на трудоёмкость в содержании скота, животноводческая отрасль являлась определяющей в волости, приносящей самый большой доход – 195 тыс. рублей в год; остальные отрасли являлись вспомогательными.
Оленеводство составляло отдельный вид хозяйственной деятельности, которым занимались единичные зажиточные хозяйства, использовавшие оленей в качестве транспортного средства. Выпас оленьих стад осуществляли ижемские и ненецкие пастухи, для которых кочевье было естественным образом жизни.
Из промыслов рыболовство являлось самым доходным занятием усть-цилёмских крестьян, в которое в XIX веке было вовлечено более 60% трудоспособного населения. Рыбными промыслами занимались практически круглогодично: артелями в шесть-двенадцать человек промышляли на реках, озёрах, в море. Самым распространённым был речной лов. В весенне-осенний период ловили рыбу, различавшуюся по введенным устьцилёмами категориям: «красная рыба» – семга; под «белой рыбой» понималась рыба жирноплавниковых сортов, заходивших из моря в Печору на нерест (нельма, чир, омуль, сиг, пелядь, зельдь); «серая рыба» – только пресноводные сорта (щука, язь, окунь, сорога, подъязок, ёрш, меева). Рыбу первых двух категорий считали самой ценной, она шла в обмен на хлеб и приезжие купцы охотно скупали её прямо в периоды лова. «Серую» рыбу ловили в озёрах и реках различными способами, с берега удочкой и продольниками, небольшими неводами – пущальницами, сурпой, фитилем и др., которую чаще и оставляли для пропитания.
Несмотря на то, что у каждой деревни была своя тоня, белорыбные и семужьи угодья поступали в свободно-захватное владение. Рыбаки края знали о расположении тоней, на которых ловилась рыба определенных сортов, и в периоды её «хода» выезжали на места лова и рыбачили большими неводами (омулевками, зельдевками), достигавшими в длину 100–150 сажен.
В августе устьцилёмцы сплавлялись по Печоре и рыбачили в море (ездить на губу), сбывая продукцию на месте. Возвращались перед ледоставом с последними пароходами, которые брали лодки на буксир. Жители рек Пижмы и Цильмы занимались рыболовством в бассейнах своих рек, а также выезжали на озера: пижемцы на Ям-озеро, цилемцы на Косменские озера, где занимались ловом в весенне-осенний период.
Население по Печоре рыбачило на озерах в зимний период, поскольку к большинству водоёмов можно было добраться только по зимнику на лошадях. Большинство озёр имели названия от названий видов рыб, водящихся в них: «Пелединое», «Езево» и др. Лов рыбы в озере производился артелью, улов делился между хозяйствами по числу душ мужского пола, платящих подати.
Осенне-зимний период (с сентября по март) был промысловым сезоном охотников. В XIX веке в каждом втором хозяйстве имелись охотники, промышлявшие на боровую дичь; промысловиков на пушного зверя было меньше. Огромные лесные площади были издревле поделены между промысловиками, и родовые угодья переходили по наследству от отца к сыну. Охотились как в окрестностях своих селений, так и вдали: иногда уходили на расстояние до 200 километров. На дальних расстояниях охотились артелью и добыча делилась поровну. Осенью промышляли на боровую дичь (рябчики, куропатки, тетерева, глухари), зимой на пушного зверя (белки, горностаи, лисицы, зайцы, росомахи).
Значительный доход в хозяйственной деятельности крестьян приносил извоз, которым занималось около 60% населения волости. Выезжали обозами численностью от 20 до 100 подвод. Устьцилёмы вывозили в Архангельск, Пинегу, Мезень промысловую (пушнину, рыбу, дичь), сельскохозяйственную продукцию (мясо, масло, шерсть, шкуры животных), вязаные изделия; приобретали на ярмарках промышленные товары (ткани, металлические предметы, порох, охотничьи принадлежности), а также керосин, чай, сахар, кожевенные изделия.
Незначительный процент населения был занят в лесном промысле, смолокурении, кузнечном деле, обработке брусяно-точильного камня.
Существенные перемены в хозяйственной деятельности нижнепечорских крестьян произошли в годы социалистического строительства, когда экономика страны перестраивалась «на новые рельсы». Ликвидация частной собственности и насильственное вовлечение крестьян в государственное колхозное строительство привели к тому, что значительно сократилось сельскохозяйственное производство; охота и рыболовство также не имеют важного значения в жизнедеятельности устьцилёмов, скорее, это форма досуга.

Охотник с 54-летним стажем – Тимофеи Иванович Бабиков. 1960-е годы. Из семейного альбома Е.А. Бабиковой.
§ 3. Духовная составляющая культуры домашнего быта
Семья – малая церковь
Так русские староверы понимали устройство дома и благочестивую жизнь в нём. Многие усть-цилёмские старцы и ныне цитируют Иоанна Златоуста, «церковь не стены и покров, но вера и житие». В усть-цилёмской локальной традиции большое значение придавалось обустройству дома, в частности, под «духовной обжитостью» понималось наличие в нём икон; дом без образов сравнивался с нежилым помещением. Их было принято расставлять во всех комнатах, но главную божницу располагали там, где трапезничали. Особо почитались древенные образа, которые оформляли в резные киоты, выполненные местными мастерами. Широко представлена и литая пластика: четырёх- и трёхстворчатые складни (створы) стремились приобрести все крестьяне. Информанты особо выделяют иконы с белой эмалью, называющиеся в усть-цилёмских селениях иконы со свенистами, – как самые дорогие в ценовом отношении, и красивые (баски образа) – в эстетическом. В прошлом их имели преимущественно богатые крестьяне. За культовыми предметами тщательно ухаживали: мыли не менее трёх раз в год, при переносе в другой дом заворачивали в чистое полотенце. Существовали предписания в обращении с иконами, например, к ним запрещалось прикасаться инославным, женщинам в дни регул; взрослым следовало предварительно вымыть руки, женщинам повязать платок. Для верующего человека иконографический образ является важнейшим символом религиозной культуры, защитой дома и домочадцев Посредством молитвы перед иконами совершается общение с Богом: «Жили богасьва никакого не было: книги да иконы. Молисе, гледишь на икону как с Богом разговаривашь». Молитва совершается всегда при затеплённой свече на божнице, символизирующей любовь к богу, являющейся «знаком веры и надежды на благодатную помощь Господа». Трепетное отношение к иконам и стремление к их приобретению связывалось ещё и с тем, что в староверческих поселениях, подвергавшихся преследованию со стороны властей, запрещавших возведение культовых строений дом представлял собой «храм», где соборно и в частном порядке проходили службы. Иконы всегда высоко ценились, их привозили из староверческих центров, а также приобретали у староверческого населения в различных северо-западных местностях, куда устьцилёма выезжали на ярмарки*.
* (Коми-ижемцы иронизировали над стремлением устьцилёмов к приобретению икон. Н.Е. Ончуковым от зырян был записан анекдот «Зыряне смеются над устьцилёмами! Встречаются два устьцилёма и начинается разговор:
– Парфенте-ей. а Парфенте-ей!
– Чего-о?
– Куда поеха-ал?
– В Пинегу-у.
– Пошто-ле?
– На базар.
– Купи мне икону-у.
– Какую?
– А Миколу-у.
– Большу-ле?
– С баянну дверь.
Рассказчик намеренно растягивает слова на концах, передразнивая устьцилёмов, которые говорят очень певуче».
См. об этом: Ончуков Н.Е. Северные сказки. СПб., 1909. с. 75)
По предположению искусствоведов и реставраторов, роспись, поновление деревянных икон производили и в Великопоженском ските – центре печорского староверия. Иконы дарили кровным и духовным детям, передавали по наследству из поколения в поколение.
Благочестивые староверы бережно относились к своему дому: в праздничные и воскресные дни совершали каждение жилого и хозяйственных помещений, всех жильцов, скота. Объяснением тому было поддержание духовной чистоты: снятие зловещих знамений (неожиданный скрип, стук), ограждение домочадцев от нежелательных отрицательных воздействий недоброжелателей, посещавших дом. «Крестом» кадили пороги повсеместно считавшиеся опасным местом в доме.
В семьях существовал порядок, строгость предъявлялась к каждому члену. Прежде всего, соблюдались церковные правила, предусматривавшие почитание старших, послушание, исполнение суточного круга молитв, воспитание детей и др. Рассказы о внутрисемейном устройстве свидетельствуют, что начитанные крестьяне использовали книжные знания в жизненной практике. Для них чтение было не праздным времяпрепровождением, а, прежде всего, житейской потребностью: в книгах староверы черпали ответы на волнующие их вопросы. Многочисленные записи пометы оставленные печорскими читателями на полях и форзацах книг, свидетельствуют о том, что книги и рукописи находились в обращении – их читали и передавали по наследству. С.В. Максимов пишет об этом: «Все архангельские раскольники грамотны. Такова и Усть-Цилёмская волость». <…> Они (усть-цилёмские крестьяне – Т.Д.) свято хранят здесь на тяблах, в чуланах и крепких сундуках за замком не как вещи, имеющие ценность, как нечто старое, пережившее много столетий, но как материал для поучения и чтения назидательного, усладительного, душеполезного. Пишущему эти строки удалось видеть свежие недавние копии, целыми томами большого формата со старопечатных книг и целые сборники-книги, которые поразительны по той разносторонней пытливости и любознательности, с какими старались записывать печорские грамотеи всё, что могло интересовать их и насколько позволяли то делать небогатые средства». Т.Ф. Волкова, изучающая книжную традицию печорских крестьян, отмечает: «В читательских записях на печорских книгах часто выражена высокая оценка переписываемых древнерусских сочинений которая выливается в слова благодарности владельцу книги, а сам читательский процесс воспринимается как ответственный и жизненно важный труд, приносящий духовную радость».
О грамотности населения в печорском (старообрядческом) крае писали многие путешественники, исследователи. В семьях имелись библиотеки (книжницы) или отдельные книги – Псалтырь, канонники, рукописные сборники с поучениями, которые с интересом читали и по «слову Божию» строили семейную жизнь. Собранное В.И. Малышевым и его последователями книжное наследие Нижней Печоры насчитывает свыше 1000 единиц памятников, хранящихся в Институте русской литературы, и свыше 200 единиц – в Научной библиотеке СыктГУ. Усть-цилемские крестьяне были знакомы с сочинениями старообрядческих писателей XVII века – Аввакума, дьяка Фёдора, попа Лазаря, в частности, об Аввакуме спустя столетия говорили как о живом. Его произведения вдохновляли христиан к сохранению древнеправославной веры и старорусской культуры, многие поучения нравственного содержания, о супружеских отношениях переписывались населением или транслировались изустно. В.И. Малышев в своих отчётах о поездках на Печору неоднократно упоминает о нахождении списков Жития протопопа Аввакума. В частности, он сообщает, что если прочие рукописи крестьяне жертвовали охотно, то сочинениями Аввакума дорожили и оставляли в своих книжницах. Например, С.Н. Антонов, пижемский наставник, «только Житие протопопа Аввакума уступил с условием, чтобы прислали ему печатное издание, да чтобы “буквы были покрупнее”». Ещё в середине XX века усть-цилёмские старики показывали В.И. Малышеву место остановки Аввакума, когда его с соузниками везли в Пустозёрск.
В усть-цилёмской среде широко бытовали рукописные сборники, создаваемые местными переписчиками, привносившими в тексты назидательного характера своё видение и понимание. Т.Ф. Волкова, рассмотревшая списки «Слова о ленивых», пишет: «»Слово” представляет для нас интерес не только в силу его бытования на Печоре, но и потому, что на основе именно этой версии “Слова о ленивых” на Печоре были созданы в XIX в. свои местные редакции*,
* О ленивых. «Друзи и братия, не уподобляйтеся лѣнивым, недолго спите а ставайте рано, ложитеся поздно, молитеся Богу, да не внидите в напасть. Лѣнивому добра не видати, а горя не избыти, спасения не получити и Бога не умолити, грѣхов не очиститися, чести и славы не получити, красных риз не носити, сладкаго брашна не ядати.
У лѣниваго хозяина в домѣ безпорядки: крыша худа, снѣг и дождь у него в гостях, а изба стоит на боку, а голодная скотина стоит без сѣна, а ребятишки полунаги без хлѣба.
У лѣнивой хозяйки в доми пол не мыт, печь и трубы едва стоят, а у самой платьишко едва закрывает стыд. У лѣнивой хозяйки в избѣ сор и шал во всяком углу, а из червѣй и тарканов хошь уху вари.
Лѣнивые хозяева лѣтом росу просыпают, а зимой ни хлеба, ни сѣна нѣ видают, да того ради братия и сестры не подобает никому ни лѣнитися, да здѣ не будем гладни и жадни и в будущем не получим вѣчных мук. См.: Волкова Т.Ф. Поучения против лени в ‘круге чтения старообрядцев Нижней Печоры // Старообрядчество: история, культура, современность. 2004. Вып. 10. С. 77–78
по новому развивающие тему лени и её губительных последствий для человека. Печорские крестьяне дополнили афоризмы своих средневековых предшественников личными весьма конкретными и реалистическими наблюдениями над жизнью и бытом некоторых своих обленившихся односельчан. <…> Печорский книжник И.С. Мяндин, известный исследователям севернорусской книжности как редактор древнерусских повестей, вносивший в текст источников много нового, насыщая их идеями и темами, волновавшими печорских крестьян, меняя зачастую и композицию, и сюжет повестей, упрощая язык». Последним известным печорским писателем-переписчиком был С.А. Носов (1902–1981), в творческом наследии которого наибольшую научную ценность представляет цикл из 19 авто-биографических видений – небольших по объёму эсхатологических сочинений, сопровождённых автором 12-ю пояснениями-комментариями. Предметом исследования является и эпистолярный жанр, в частности письма Степана Анфиногеновича к дочери, в которых рассматриваются «нравственно-этические воззрения, то есть те духовные качества, которыми он, как последний не только писатель, но и самый грамотный в вопросах “старой” веры в 60–70-е гг. XX в. старообрядец, руководствуется в суждениях о времени, о современниках и о себе». В советский период с его идеологией Степан Анфиногенович стремился через свои видения и личные драматические переживания уберечь усть-цилёмских читателей от ошибок, главной из которых считал отход от веры.
Большое внимание в старообрядческой среде уделялось обучению чтению. После упразднения Велико-поженского скита, куда ранее крестьяне приезжали для обучения грамоте, просвещение и учёбу старцы начали проводить в домах и, как утверждают пижемские староверы, занятия основывались на монастырских традициях и понятии «греха», закрепленного в Псалтыри. В староверческой культуре поныне сохраняется понимание о п р а в и л ь н о м чтении, с прочитыванием каждой буквы, неспешно, с протягом, т.е. определённым напевом, как важного условия для духовного благочестия. Эти требования предъявлялись всем староверам, проживавшим в селениях Усть-Цилёмской волости и в верховьях р. Печора. Известно, что в конце XIX — первой трети XX века детей обучали чтению по Псалтыри, и в конце книг многие устьцилёмы оставляли для потомков надписи-напутствия. Так, на Псалтыри, принадлежащей И.И. Бабиковой, сохранилась надпись следующего содержания: «Кто в науках прилежно учится, тот проживёт как человек и безмятежно окончает. А ленивый носит знак со скотом равен творений, между людьми слывет дурак».
Обучали не только чтению, но и письму. Важнейшие молитвы для заучивания записывали на бересте, которые разрешали детям читать на полатях, лёжа на животе. Поскольку все важнейшие требы (поминовение, здравницы) служили в частных домах, то многие уже с детства знали наизусть панихиду за единоумершего, литии, тропари (о здравии и за упокой), Богородичные молитвы, «Да воскреснет Бог…» (воскресная молитва), читаемую на прогнание бесов. Воскресную молитву многие крестьяне с целью оберега переписывали и пришивали к тесьме, на которой носили нательный крест, а женщины ещё и в ленту (косник). Как и в чтении, все произносимые слова молитвы следовало проговаривать с страхом, т.е. не спеша, чётко произнося каждую букву.
По воспоминаниям П.Г. Чупровой, в 1930—40-е годы обучение чтению на старославянском языке временно прервалось, что было связано с изменениями в трудовой сфере на селе. Крестьяне, вынужденные работать в колхозах «от зари до зари», не имели свободного времени для образования. Поминальные службы проводили по памяти, но обязательно на аналой выставляли книгу – Канонник или Псалтырь; книга являлась одним из важнейших символов их культуры.
В местной среде стойко сохраняются рассказы «о попах», их неблагочестивом житии и неправильном чтении в церкви. Общее небрежение их к молитве, стремительное чтение с проглатыванием букв, считавшееся староверами недопустимым, понимаемым как «глумление над словом Божиим», «махание креста» – небрежное осенение крестным знамением – примеры известные в православной культуре и повсеместно осуждаемые в народе. Безусловно, такое отношение священников к церковному правилу не способствовало привлечению крестьян-староверов в официальную («никонианскую») церковь. Об ироничном отношении к священнослужителям сообщается в многочисленных рассказах: «Один поп умер, ну и другой его кадит в гробу, а сам посмеивается: ‘‘Всё, батюшка, твоя песенка-та спета. Сейчас я с кадильничкой ходить буду, денежки-ти мне в карманок станут падать.” У нас грамотны умрут дэк их оплакивают, да чё, а попы только и ждут чтобы власть взять. Так раньше-то об этом рассказывали»; «Ране всё пели частушку: к нам из Шенкурска прислали Васю Кошева в попы. Он и грамотки не знает, не умеет и читать».
Несмотря на притеснение староверов, в некоторых деревнях, удалённых от волостного центра, имелись часовни, в которых проводили праздничные службы (дд. Боровская, Черногорская, Скитская). Часовни были частные: в д. Боровская часовня принадлежала Федосье Васильевной Чупровой, в д. Черногорская – В. Семёнову. Во многих крупных и малых деревнях (включая Усть-Цильму) имелись моленные, устраиваемые в домах зажиточных крестьян; обычно для этого использовали помещение на втором этаже (верхи). По воспоминаниям крестьян, в них имелись иконостасы, книжницы, аналои, лавки, подручники – всё необходимое для проведения служб. В частных моленных служили соборно праздничные и воскресные службы вплоть до коллективизации. И в настоящее время в каждой усть-цилёмской деревне совершается домашняя молитва, правда, уже исключительно пожилыми людьми; в частных домах по запросу домочадцев служат требы – важнейшие службы, в число которых входят здравницы и поминовения.
В народной религиозно-обрядовой жизни важнейшее место занимала домашняя молитва. В прошлом по Уставу молились старцы, не занятые физическим трудом, и люди, посвятившие себя служению Богу: утреня, часы, вечерня, павечерница, полуношница; прочие молились по лестовке с крестным знамением и поясным поклоном (в пост земной); взрослому ежедневно необходимо было отмолить семь лестовок Исусовой молитвой, детям – три. Молясь по лестовке, следовало неспешно, точно класть крест, с тем, чтобы этот жест не был сведён к маханию рукой, в усть-цилемских деревнях говорят по этому поводу: «Только жиды махали рукой, не попадали на лоб, пуп, плечи. У мамы на кабате даже на плечах дырки были от перстов, усердно молились здесь»; «Крест класть надо руку твёрдо ставить на лоб, плечи, пуп, а будешь наотмашь делать – бесу работа и моление не доходно. И тысяче маханий одного дельного креста не стоят»; «На молитве надо стоять, чтобы ноги были вместе, носки-пятки, а то шишко будет между има ходить, перетаптываться нельзя».
Все домочадцы, за исключением младенцев до трёх лет обязательно молились до и после принятия пищи. Перед всяким делом следовало обязательно благословляться, а за работой творить молитву; по этому поводу говорили: «Твори Исусову молитву вовек не погибнешь и в делах управишься. Новым можот и некогда было много молицце, семьи больши были, творили молитву за работой». Сведения о душеспасительности Исусовой молитвы крестьяне получали из книг, а затем слагали былички:
1. «Жил-был один старичок. Одну только Исусову молитву знал, про себя творил. И как-то приплыли старцы и стали его “начал» класть учить. Он пока запомнил, а они отплыли, он за има по воды бежит и спрашиват: “Как молицце-то надо? Я забыл». А они ему отвечают: “Твори дальше молитву, так спасессе». Одну молитву знал, а свете их был – раз по воды бежал».
2. «Жила была женщина детна. Молитца было некогда и чё бы не делала сё Исусову молитву творила. И как-то теплитце дымок из трубы и зашёл к ей старец и спрашиват: “Поправлеисе. А когды молисе?». Она говорит: “Я не молюсь только Исусову молитву творю». Старец ей и говорит: “Надо молитце». Стала она перед образами, а у самой то не сделано, друго не сроблено и думы все молитвы перебивают. И ничё не успеват делать и дымок из трубы не показалсэ. Старец заходит к ей и спрашиват: “Ну как молисе ле? ” Та и рассказала как и чё. А старец и говорит: “Как за работой молилась так и молись. Больше толку будет”».
Религиозный фольклор у устьцилёмов представлен очень разнообразно. Бытуют рассказы о так называемых «ненаученных» людях, но, по комментариям крестьян, имевших усердие к спасению: «Когды-ле раньше жили двое. Смотри гонили ведь из веры, спасались кто где мог. Никаких молитв не знали, а была у них икона – Богородица с младенцем. Они ставали перед иконами и просили вас двое и нас двое, спасите нас. И спаслись». В славянской культуре так называемые «неправильные молитвы» сохранились в разных вариантах, объединённых общим мотивом: противопоставление соборной и высокой премудрости и неграмотности простых «неучёных» людей. По мнению Н.И. Толстого, их сложение связывалось с влиянием евангельских мотивов.
Широко бытовали и так называемые «неканонические» молитвы, которым, наряду с церковными, придавалось серьёзное значение. Сочинённые по типу стиха, они легко запоминались и передавались изустно. Приведу некоторые из них.
1. Молитва при грозе:
Свят дух над нами.
Земля-мати под нами.
Милостивый Господи, спаси и сохрани:
От буйного ветра, всякого урагана.
От всякого грому, деревянного лому
и палящей молнии.
2. Молитва от врагов:
Враг-сатана отшатись от меня.
Есть у меня от Троицы крест, от Богородицы венец.
Куда иду крестом крещусь никого не боюсь.
3. Прощание тяжелобольного грешника:
Семь семерич.
Милостивый, Господи,
Прости мою душу грешную.
О всём земном согрешении:
С юности до сего часу.
Дай боль не одольную,
Дай смерточку тиху и смиру:
Людей не напугать и самого(у) себя не намотать.
В семьях строго соблюдались праздничные и воскресные дни, в которые возносилась хвала Богу – совершался духовный труд и запрещался физический за исключением самых необходимых дел: приготовления пищи и ухода за скотом. О правилах соблюдения воскресных дней встречаем отрывок из книги Иоанна Зонара в тетради А.М. Бабиковой: «Аз Петр и Павел апостоли Христовы заповедаем рабом Божиим о деланиих человеческих, еже делати шесть дней: в понедельник, вторник, в среду, четверток, пяток, а в субботу до полудня или до третьего часу, или же паки весь день субботу воздержаться бы от тяжёлых дел, и дому предстояти, и память по умершим творити, и странноприятия, и учреждения, и любовь совершати. Суббота бо воздаяние благодати имеет и в покаяние наречётся. А неделя первый день Божий Воскресения благодати имеет. Заповедаем день хранить и почитать. А в понедельник трудиться руками». И ныне благочестивыми людьми соблюдается правило поминовения «родителей» в субботу и родительские недели; подготовки к праздничному и выходному дням, а нарушение правил обосновывается житейски: «Против воскресенья и против больших праздников в кругу долго не родят, говорят: топором рубишь, дэк можошь изувечиться. Это уже Богово время. Стирать, пол мыть, в байны мыцце в праздники – грех, потом эту воду выпить надо будет на том свети. Большой грех в праздники робить. Дедя Гаврил, грамотной шипко был, увидит баба в воскресной день стират, пойдёт к ей и скажот – блудишь. Покойной учил людей. В совецко время жёнки всегда спрашивали у старух, ле грамотных – нет ле какого завтра праздника, шшобы не нарушить». В некоторых семьях и ныне хранятся тетради с выписками из поучений и правил, которые зачитывают детям и всем домочадцам.
Большое значение староверы придавали сохранению рода. Важнейшим занятием стариков, понимаемым как труд, было совершение молитв суточного круга, о здравии близких и за упокой родителей. Отмаливанию грехов рода придавалось очень большое значение, устьцилёмы и ныне полагают, что неотмоленные грехи могут искоренить род. Как руководство к действию (поминовению) можно рассматривать апокрифический текст «Слово о забывших грешных», включавшийся в синодики, написанный просто¬душным языком в живом народном стиле, понятным крестьянству, в котором повествование идёт от лица усопших, отошедших к Господу неподготовленными, т.е. без покаяния, не исполнивших духовных дел. Рукописное слово для просвещенных староверов всегда было и остается «единственным непререкаемым авторитетом, объясняющим, хранящим и воспроизводящим на уровне личности старообрядца и старообрядческой общины отеческие традиции». Понимая это, крестьяне и оставляли письменные напутствия потомкам, часто не указывая источник, но горячо желая сохранить веру и благочестие.
Мной выявлено несколько вариантов народных тропарей за упокой, которые и ныне используются наряду с церковными при совершении поминовений и как память о конкретном предке, передавшем текст. Их сложение, вероятно, связывалось с запретом на чтение канонического тропаря по христианам, умершим без покаяния, определённых истыми усть-цилёмскими староверами в категорию мирские. Церковными правилами запрещалось поминовение и безымянных, т.е. умерших без крещения. Оставить человека без молитвы крестьяне не представляли возможным, ибо, по их мнению, неотмоленный усопший будет л е ж а т ь к а м н е м. Создание народных поминальных молитв раскрывает крестьянское понимание сущности жизни-смерти, их применение должно было улучшить загробную жизнь усопшего, а в целом было направлено на сохранение рода.
Тропари за упокой:*
1. Поминовение безымянных, читаемое только в родительские недели:
Покой, Господи, душа усопших раб своих.
Отцов и матерей, сынов и дочерей,
Сродников и сродниц,
Отроков и отроковиц,
Младенцев забывших и непоминавших.
* Канонический вариант:
Покой, Господи, душу усопшаго (ей) раба (ы) Твоего (ей) (имярек, поклон).
И елико в житии сем яко человецы согрешиша,
Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (её) и помилуй (поклон).
И вечныя муки избави (поклон),
Небесному царствию причастника учини (поклон).
И душам нашим полезное сотвори (поклон).
2. Поминовение за едой в родительские недели:
Господи благослови Христос.
Покой Господи душа усопших раб своих и рабынь.
Всех родных родителей: не всех поимённо, всех
заедино.
По плоти и по крови — до семи колен.
Кто умер без прощенья, кто без покаенья, кто на
войны павший.
Избавь их, Господи, муки вечной.
3. Тропарь за мирских:
Владыко, Господи Исусе Христе Сыне Боже помилуй создание своё
Душу раба (ы) своего (ей) /имя рек/.
Избави его (её) от муки вечныя, огня негасимого.
Червия неусыпающего, тьмы крамешныя,
Скрежета зубнаго, тартара преисподняго
И прочих вечных мук, и прости ему, Господи, всякое согрешение,
Вольное и невольное в слове и в деле и помышлении
Яко благословен еси Ты во веки. Аминь /поклон/.
Тема смерти во все времена волновала людей и по-разному выражалась: от духовной радости до душераздирающего огорчения. К кончине следовало всегда быть готовым, критериями являлись покаяние, добродетельное житие. Народное понимание смерти-поминовения, ритуалов, связанных с ними, было различным и формировалось как на основе святоотеческих писаний, так и жизненных наблюдений. Для перехода усопшего в категорию запоминанных предков, т.е. отмоленных, в усть-цилёмской культурной традиции требовалось 30 лет поминовения полным чином – времени, необходимого для обновления поколений.
По мнению верующих людей, здоровье потомства и общее благополучие семьи зависело и от усвоения людьми христианских законов и их исполнения, среди которых важнейшими являются послушание, кротость, любовь к ближнему: послушание паче поста и молитвы – говорят устьцилёма, ссылаясь на писание. Здоровье будущего потомства зависит от почитания родителей, совершения добрых дел, осознания своих грехов и их исповедания (плакать о грехах). Бытующее присловье «благословение отцово утверждает дом детьми» взято из поучения о почитании родителей, текст которого полагаю важным вынести в сноску и привести полностью*.
* «Поучение какое подобает детям чтити родителей своих» приводится из рукописного Цветника, хранящегося в книжнице А.М. Бабиковой. «Люби отца и мать своих и благо тебе будет, и будет долголетен на земли. Тот, кто чтёт родителей своих, слушает их повеления, тот грехи свои очищает и от Бога прославится. А кто озлобит родителя своего, тот перед Богом согрешил и от людей проклят. Иже биет мать или отца своего – отлучится от Церкви и смертию да умрёт. Писано, отчая клятва непокорлива сына сушит, а материна искоренит. Сын непокорный в пагубе будет. Кто гневит отца или досаждает матери и мнится не согрешая Богу, сей сообщник есть нечистивым, о них рече Исайя, да возьмётся нечистивый и не узрит славы Господней. И паки: око намизающее отцу и укоряющего старость матери, да исклюют вранове (вороны – Т.Д.), и скоро изъяден будет орлы. Чти отца и возвеселится о чадах и в день печали избавит и молитву его подаст ему. Послушай Бога, кто покой матерь свою в добре. Угождай своему отцу, и в благе будешь жить. Тем же братие делом и словом угождайте родителям и получите благословение от них. Благословение отцово утверждает дом детьми. Материнская молитва спасает от напасти. Братия заступайте старость отца вашего иначе лишитесь разума. Не бесчествуйте его в сердце в своем Милуй отца, молитва отчая не забудется пред Богом и не забывайте труда материнского, иначе будет детям печаль и болезнь Не говори много о том, что кормишь их и поишь, а заботься о них так, как они о тебе. Страхом и раболепием служи им и в добре поживешь и в будущем веце насладишься».
В процессе опроса жителей Усть-Цилёмского района, рожденных в первой трети XX века, мне пришлось слышать различные варианты устного переложения вышеупомянутого поучения, что свидетельствует о важности книжного чтения и привнесения знаний из поучений в процесс воспитания. Цитаты об этом: «В пост много читали. Старики молиться будут и нас ставят рядом. Потом читать будут и нас за стол посадят. Мы слушам и картинки смотрим. Сейчас помню, которо бабушка мне читала»; «Нас воспитывали дедко да бабка, родителям робить набыло. По книгам учили жить, да по людям – в пример ставили ле опеть говорили, как Федот-от не живи, в греху утонешь. Страсти читали в пост, картинки-ти смотрели, беда боелись – как там в огни горят грешны да в котлах кипят».
Важнейшей составляющей спасительного пути староверов был уход от общения с иноверными, регламентации жизненного поведения отражены в многочисленных запретах и предписаниях. С иноверными возбранялись совместные моления и трапезы, в каждом доме для них имелась отдельная посуда, которую мыли и хранили особо; бывали случаи, когда в дальнейшем такую посуду изымали из использования. За общение с иноверными, например, на выезде, следовало отмаливать епитимию. Но милостыню следовало подавать всем нуждающимся людям, несмотря на их конфессиональную принадлежность: «Ходили, просили по домам. Ижемцы приезжали на санях, ходили, просили – всем давали, кормили и поили. Говорили: добро надо делать, христаради подавать. Бывало свои (староверы — Т.Д.) бенны люди потом в летну пору со старухами в домах жили, помогали водиться с робетишками, их кормили. За еду помогали».
В быту каждый член семьи имел отдельную посуду, которой пользовался дома и с которой ходил в гости или на поминальные службы. В прошлом местной традицией допускалось пользование общей миской лишь детям до пяти-семи лет (как «бесполым», «чистым»), но уже подростки, приобщённые к труду и исповеди, имели личную посуду. В. Ненароков приводит такой диалог с мальчиком: «Да что ж ты хлебова-то не ешь? С братом-то что не хлебаешь? – Не приходится мне с братом из одной чаши хлебать, брат меня раньше с т а р о в е р и т ь (разрядка моя — Т.Д.) начал». С 1950-х годов утрачивается традиция соблюдения «своей посуды» и возникает новая: в каждом благочестивом доме, где служат поминальные службы, держат специальную посуду для поминальных трапез (эмалированные миски, кружки и деревянные ложки), которую используют только в этом случае и хранят отдельно от ежедневно пользуемой посуды.
В народной культуре особое отношение сохранялось к бытовой чистоте, поддержание которой понималось в большей степени с позиции мировоззрения, нежели гигиены, устьцилёмы говорили: «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь»; «В большой чистоты жить не велено». Требования к поддержанию чистоты в доме обосновывали весьма своеобразно: грязный двор/дом женихи будут обходить стороной; невымытую посуду черти лижут, и ею запрещалось в дальнейшем пользоваться; воду в кадках и ушатах закрывали крестовиной, с тем, чтобы черти не пили воду из них; если не было воды для умывания, то следовало подуть на руки, творя Исусову молитву, которую также следовало проговаривать при полоскании белья; запрещалось выносить мусор из избы на улицу, его полагалось сжигать, с тем, чтобы упредить излишнюю болтливость женщин в сельской округе; для детей особо стимулировалось наведение порядка – Бог 40 грехов снимет. Одежду родителей, как грех творящих, и детей – чистых, стирали в разных корытах, чтобы до возраста / до времени не огрешить их. Баня, как и повсеместно, воспринималась «нечистым» местом, в связи с этим, когда уходили мыться, нательный крест оставляли на божнице, а вернувшись из неё, сначала умывали руки и лицо и лишь затем, перекрестившись, надевали крест. Вышеперечисленные предписания свидетельствуют, что для крестьянства понятие «чистоты» связывалось с духовным порядком, но через такое понимание жизни на должном уровне поддерживалась и бытовая опрятность. Информанты подчёркивают, что в «стерильной» чистоте никогда не жили – «где живёшь, там соришь». Т.А. Тихомирова негативную оценку абсолютной чистоты в народных представлениях связывает «с категориями завершённое — незавершённое. В Архангельской губернии считают: что ещё не завершено, то молодое и живое, ему далеко до старения». Отрицательное отношение проявлялось и к беспорядку, связывавшимся с нежилым, вызывавшем презрение. Таким образом, для крестьянства духовная составляющая культуры быта была важнее физических свойств чистоты, которая также не оставалась без внимания.
Большое значение староверы придавали речи, за которой старцы призывали взрослых и детей строжайше следить. Запрещалось сквернословить, материться, клястись ‘ругаться, поминая нечистую силу’, говорили: «Богородица в ту минуту на своём престоле содрогается»* .
* Из поучения Иоанна Златоустаго о матерном слове: «Не подобает, братие, православным христианам матерно ругатися во брани, понеже есть Мати Божия. Пресвятая Дева Мария роди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, юже познахом Госпожу заступницу и молебницу нашу, всякому человеку в скорбех покровительницу и спасение душам нашим. Вторая мати всем человеком, от нея же родихомся и познахом свет сей и от сосец ея воздоихомся, сия мати человека, яко труды и болезни понесе, всякую нечистоту нашу приняла, обмыв и обвив, воспитала нас и одея. Третья наша мати земля: от нея же первый человек Адам от Бога сотворён, от нея кормимся, пиши и одежды приемлем, во нюже и паки возвратимся, во гроб вселяясь. Аще который человек в который день избранится матерно, в тот день у того человека уста кровию закипают, горят пеною, и паром скверным смрад исходит из уст его. И тому человеку, аще не раскается, не подобает в церковь Божию внити, ни Евангелия целовати и икон святых, и креста, и причастия давать. Того человека, не удержавшегося от проклятого слова матерного, ангел хранитель плачется, а диавол радуется». Подобные выписки из поучительных текстов встречаются в тетрадях усть-цилемских крестьян и ныне активно переписываются
Вместе с тем встречаем противоречивое отношение к использованию матерной брани: запрет на ругань связывался с христианскими представлениями о хранении человеком благочестия и спасительном пути; с другой стороны, существовало суждение о защитном эффекте матерной брани от порчи, демонических видений. Рассказы об этом: «Раньше ведь беда шипко пугало, в лесу, бывало, “казалось” – заматерисе и всё пропадёт, а то могло в лесу увести»; «Лучше заматериться, чем заклестись. Скажешь лешак, он в тебя и заскочит, крепкий матюжёк загнёшь – тут уж всю нечисть, как сдует. Мужики матерились-то, в лесу ходят… Бабы молитву творили». Традиционно такой вид защиты применяли мужчины, не крепкие в вере; по словам информантов, такие случаи были нечастыми и требовали покаяния. Богобоязненные люди творили «Воскресную молитву» на прогнание бесов. В особо опасных зонах: порог, дорога/перекрёсток, с целью оберега следовало творить молитвы, в том числе и неканонические, являвшиеся прерогативой женщин:
1. Господи, благослови.
Иду пути, Христос впереди.
По бокам ангела.
Закройте рот, глаза и уши у моего врага.
Впереди Бог, по бокам ангела –
Оберегайте меня.
2. Ангел навстречу,
Господь на пути.
Божия мати, мене помоги. Аминь.
3. Ангел мой, пойдем со мной.
Ты впереди, я за тобой.
В крестьянском сознании ругаться «нечистыми словами», т.е. упоминать чёрта, беса из библейской мифологии и демонологических персонажей – лешак/лешачиха, считалось «последним делом», к тому же небезопасным. Староверы проявляли боязнь к произношению этих номинаций, особенно «сгоряча», что, по рассказам информантов, приводило к болезни – нечисть «садилась» в человека: «Говорит немочь: “Ф стаи я на стенки сидела сколько время, никак попасть не могла. Ты заклелась – вот я и попала, заскоцила (в человека -Т.Д.)»; «Клестись нельзя, лешака поминать, болезни штоп не было». В женском лексиконе такого рода ругательства имели обобщённое название большот, которое можно было использовать в речи безбоязненно: большот носит — говорят, когда приходят в гости неприятные в общении люди; большот мимо рот суётся – говорят, когда не могут подобрать нужное слово в разговоре или что-то вспомнить и др. Запрещалось произносить проклятия, фольклорные тексты повествуют о проклятых детях, унесённых в озеро и превращённых в русалок, лесное эхо и др. У устьцилёмов сохраняется понятие об опасном времени суток — пухлый час (его точность не определена), когда проклятия сбывались мгновенно. «Есть пухлый час и нельзя в этот час ругать человека, проклинать – черти могли унести, куда-ле сгинуть мог. Случай был: мать сказала дочери: «Пошла ты к лешему». И девочку нечистая сила подняла выше леса и понесло. Мать спохватилась, стала молиться и девочку на болото опустило»; «Пухлый час – опасный час, когда-то баба корову доила и корова лягается, хозяйка и говорит: “Пошла ты к лешему». И корова замертво пала. Нельзя клестись, лучше заматериться, черти матюга боятся. Нельзя плести детей, когда-то муж да жена пошли в лес и девочку маленьку взяли с собой. Ушли да долго, девочка плакать стала, мать и говорить: “Пошла ты к лешему». Девку и понесло над лесом. Они ей ловить и ничё сделать не могут. Ле опеть скажут: увело бы тебя. И уведёт. <…> Девка всё приходила на заре к реке и плакала, голосила. Вся деревня слушала. Дети там у лешего и останутся, навечно. Которы чертей знают, те могут вернуть».
Возбранялись клятвы, такие как, «Вот те крест», «Ей-Богу» и другие, иллюстрацией тому являются житейские случаи: «Дедко Тима рассказывал, при ём было дело. Мылись в бани и две жёнки толковали меж собой. Одна говорит, твой мужик стравил таку-то бабу, а друга – нет, он ничё не знат, никаких бесей, с места мне не сойти, если он еретник. Ей Богу ничё не знат! Сказала она и тут же замертво пала. Вот веть клятва-та кака, с жизни сведёт». Но не возбранялось произносить имя Христа для личной защиты, например, в случае опасности говорили, осеняя себя крестным знамением: «Господи Иисусе Христе» или «Ангел божий».
В настоящее время ещё сохраняются рассказы о «знающих» людях, подразделявшихся на еретиков (еретников) – вредоносных колдунов и лекарей (старичёк, старушка): «Когда еретник умират, то по углам в гроб соль сыплют, чтобы он из гроба не выходил. А то хоронить будут, а он сидит. В Рочево был ижемец Максим Марков, они с женой были сушшы еретники, под угором жили, кушники были. И когда он умер, то ночью на еговой могилы огонь горел, и он по улицам большим жеребцом бегал. Потом жонка егова – коробихой звали, Анна-коробиха пошла и могилу ножом обчертила, и нож в могилу заткнула и больше он не ходил. Ещё с Пижмы Мартемьян был, еретник сушшый, и жена тоже еретницей была, но он сильнее был, и ей стравил. Мартемьян бараном оборачивалсе. На горке бегат баран, люди зайдут на гору, а там Мартемьян. Он омрачит и людям покажется. Некоторы еретники в ворона оборачивались. Еретники сами уставали от себя. Мартемьян ходил даже к грамотной старушке, воскресну молитву списывал, а то пойдёт в лес охотиться, а шишки ему ходу не дают, работу просят. На како-ле время бат и помогало. Еретники новы были крепки и когда лекари людей лечили, то еретницы чувствовали это и приходили, и их не надо было в ту пору впускать. А одна еретница была крепче лекаря и ворвалась в дом и сразу умерли и старуха, котору лечили и лекарка». Несмотря на то, что те и другие использовали в практике магические приемы воздействия на человека, отношение к ним было разным. А.М. Бабикова так объяснила «праведность» целителей: «Раньше ведь людей призорили часто, много еретников было, завидовали людям. И были старушки, которы лечили, их уважали. Их и хоронили как надо, поминали, они каялись. В писаньи писано: первое дело — мир освящать, второе дело – крик утешать, третье дело – больных исцелять, четвёртое дело – чистоту соблюдать. Они ведь лечили, а не калечили. А еретников, тех не отпевали, хоронили за кладбищем, рассказывали – осиновый кол затыкали, шшэбы не вышел». В сельских поселениях крестьяне знали еретиков поимённо, в общении с ними соблюдали правила предосторожности – без нужды не вступали в беседу, а в беседе не прекословили им и по возможности выполняли их пожелания. По рассказам, опасность от них исходила повсюду, например, они могли оставить заговоренный платок, который кто-нибудь, но обязательно подбирал, «клали порчу» в общедоступных местах: «Еретники ведь не могут жить добром. Черти их толкают – сделай худо, сделай худо. Они болеют, если не делают. У нас в деревни еретник жил, дэк даже жёнку свою истаговотал, ни к кому не прилипало дак». Наставники не вели с ними брань, но молитвами помогали населению, страдавшему недугами «от людей». Известно, что некоторую борьбу с колдовством и предрассудками проводили официальное православие и волостное руководство, в частности, об этом говорится: «Ещё в 1713 году Пустозёрская воеводская канцелярия донесла Архангельской губернской, что проживающий в Усть-Цилёмской слободке Осип Асташев постоянно навлекает на себя обвинения в еретичестве, колдовстве и порче людей. При расспросах он показывал, что портил женского пола людей и к себе присушивал и блудно с ними жил. А порчу и присуху наговаривал на соль и клал во шти и в прочее; а крест с себя в то время снимал и клал под пяту в обувь, чтобы в том ему больше дьявол служил. За такое волшебство, а паче за поругание креста Христова, по сим Соборного уложения первой главы и пункта, казнити – сжечь, дабы впредь другие, на то смотря, таких богомерзких дел чинить не дерзали».
По рассказам информантов, «сглаз» умели снимать многие женщины, передававшие знания в округе. Традиционными средствами были «молчаная вода», заговоры. Общеизвестными приёмами пользовались против скрадывания пути: перепрягали лошадь, переменяли стельки в обуви или переодевали обувь с правой ноги на левую и др. Все действия совершали, проговаривая про себя или вслух Исусову молитву. Считалось: «Худой призор – вековой позор, добрый призор – в землю сгонит». Знахарей, способных лечить «призор», было немного, их также знали, они пользовались уважением в округе.
В целом крестьяне жили с глубокой верой в сердце, применяя в жизни церковные правила, при этом не отказываясь и от народных предписаний, связывавшихся с защитой психоэмоционального здоровья.
Внутрисемейная иерархия
Как и повсеместно, жизнедеятельность традиционной большой семьи, её порядок регламентировался общественными, семейными и церковными нормами поведения. В таких семьях главенствовал старший женатый мужчина – хозяин/большак – физически крепкий человек, имеющий детей, способный к труду, предприимчивый в делах. Несмотря на абсолютную власть старшего, руководить в семье было непросто, поскольку необходимо было сохранять добропорядочные отношения при том, что взаимоотношения между семьями сыновей были разные. О хозяине устьцилёмы говорили, что он в семейных отношениях стоял «в корню», т.е. управлял всеми важнейшими семейными делами: «Которы мужики охотой не занимались, жили в семье – Фёдор Сергеевич, Ефим Сергеевич – те в корню были. Хозяин должен при семье находиться, конечно, он может в дорогу съездить, но в основном он был при доме: сенокосил, дрова заготовлял, сено вывозил, закупки делал, упряжь ремонтировал, дом содержал, сыновей обучал работам. У нас дедко всю жизнь в лесу прожил – 56 лет и как только папаша с войны пришёл, уже он за старшего был. Жена у него боева была, направляла папашу, она ему помогала. Отец нам только скомандует, мы одна нога тут, а другая уже там – тут же выполняли все его приказания, слушали. Сыновья за отцом жили, даже когда самостоятельно вели хозяйство, отделились, советовались с ним».
Глава семьи представлял интересы дома в общине, нёс ответственность за уплату всех платежей и был распорядителем в делах семейного коллектива, через него осуществлялась связь семьи с внешним миром. Семейная жизнь строилась «по распоряду» старшего или хозяина, и каждый член семьи, включая детей, знал свои права и обязанности, должен был безупречно выполнять порученную работу (дело): «Семьи были большие. Сыновей с детства определяли к хозяйству. Кто плотничал, кто печи клал, на кого зверь шёл, тот промышлял. Раньше в дорогу ездили: отец поедет в Архангельск торговать, сыновья домашными делами занимаются. Кто большой семьей жил, тот и богатым был. Легче было хозяйство вести да разживать. Коров по многу держали, кожевни имели, справно жили, своим трудом. Потому и детей не отделяли». В крепких хозяйствах принято было нанимать работников, в иных семьях их было до трёх-четырёх человек, в этом случае всю трудоёмкую работу выполняли они: рыбачили, занимались заготовкой дров и обработкой шкур, обихаживали скот.
Значимость женатых сыновей определялась по их старшинству. Иногда критерием приоритета был не возраст, а физическая удаль. Разовой мужик ‘мужчина в полном расцвете сил, репродуктивного возраста’: «Мужик в года войдет – это после 25 лет и до 50, сила есть, все может, такой к 40 годам становился главным при стареющем отце, но ещё находящемся в силе. Разовы мужики семью вели». Такого мужчину характеризовали мочной, жилистый. Согласно поговорке, «Баба да корова – одно и то же, что мужик да конь», этим подчёркивали силу мужчины, его волю и вместе с тем образ коня связывался с символикой брака, соития; тогда как женщина – покорная домашняя хозяйка, обеспечивавшая внутреннюю жизнь семьи сравнивалась с коровой-кормилицей. Старший сын являлся первым помощником отцу: помогал управлять делами семьи, выезжал с ним на ярмарки, осуществлял покупки для дома. Полномочия остальных сыновей определялись семейно-хозяйственными делами, особенно в периоды отсутствия старшего в семье – это заготовка дров, вывоз сена с лугов, занятие рыболовством и другие работы. Как уже говорилось, в примачных семьях главенствовал отец жены; бывало, если в доме проживали только женщины, примак сразу становился хозяином, говорили «без мужа дом пустеет». Мужу-примаку в первые годы проживания в доме жены приходилось испытывать насмешки и унижения от деревенских мужиков. На Цильме примака иронично называли петушья голова букв. ‘не имеющий прав’; в других селениях о нём говорили, что вынужден был надеть глухую шапку ‘жить, не обращая внимания на обидные пересуды окружающих’; подпорожный голик (презрит.) букв. ‘не хозяин в доме’. И только терпение, трудолюбие, хозяйственная сметка позволяли примаку становиться равным среди прочих женатых мужчин, а иногда и превосходить общественный статус мужей-хозяев семьи.
Как и повсеместно, когда хозяин в семье становился залётным, т.е. входил в старческие года и утрачивал силу, главенство в отцовской семье переходило к старшему женатому сыну и его жене, в братской семье – брату по старшинству и его жене. Одряхлевший отец до тех пор, пока сохранял способность здраво мыслить (находился в уме), участвовал в разговорах на хозяйственные темы, советовал, но решения принимал сын. Первой помощницей хозяину была жена, распоряжавшаяся так называемыми «стряпными» делами, т.е. управляла всем женским коллективом и делами в доме (воспитание детей, уход за скотом, приготовление пищи, уборка и др.), сама принимала участие в труде, обучала дочерей и младших невесток ведению домашних дел. Мудрая хозяйка, стремившаяся сохранить в большой семье добропорядочные отношения, деликатно строила отношения и вводила в хозяйственную жизнь молодых снох, об этом свидетельствует присловье: «Дочери говорят, молодке знать велят», т.е. поучала дочь, а смышлёная невестка должна была принимать информацию к сведению.
Женская работа по дому была трудоёмкой: «Баба около печи за день до десяти километров выходит»; «Бабья работа не видна, а ухвоит*/пристановит**». Хотя мужчины и иронизировали над женщинами, их домашним трудом, в трагической ситуации – смерти жены – всегда говорили: «Лучше обгореть, чем овдоветь: дом отстроишь, а жену не вернёшь»; многие проявляли неспособность к самостоятельному ведению хозяйства. К примеру, о сложности женского труда говорится в таком рассказе: «Один мужик жёнку хухнал***, что ленива, а дома порядок всегда был: корову подоит, печь истопит, еду наварит. Пбрево**** всегда слито, дети обуты – сечину***** по дому делала. А она была боева и говорит: “Давай, мужик, поменяемсе работами. Я твою буду делать, а ты мою. Она сено привезла, сметала на поветь, а он никуды не поправилсэ: дом не мытой, дети голодны… И больше никогда не ругалсэ и с бабьей работой не оставалсэ».
* Утомить.
** То же, что «ухвоить», см. предыдущую сноску.
*** Хулить.
**** Настой на сене для скота.
***** Всё
Традиционно женский труд в семье распределяли по ситуации: бывало невестка, преуспевшая в каком-либо деле, например, в приготовлении пищи или прядении, выполняла конкретную работу; на поздних сроках беременности женщину по возможности оберегали и не ставили на трудоёмкие работы. Тяжелее всего приходилось младшей снохе, на долю которой выпадало больше тяжёлой работы, например, по уходу за скотом, тогда как старшие занимались более лёгкими делами. В целом отношение к женщинам в доме было суровым, в случаях, когда жена не справлялась с порученным делом, муж мог наказать жену.
Пребывание домочадцев в доме было подчинено внутреннему распорядку: старший в семье и женатые мужчины имели право в любое время дня сидеть в красном (переднем) углу, за столом или возле него, тогда как местом женщин был кут и место возле печи – здесь не только готовили еду, но и обрабатывали шерсть, пряли, вязали; возле печки подвешивали зыбку и нянчили детей, нередко одновременно занимались рукоделием; дети располагались на печке, полатях или возле входа; старики во время сна и бодрствования располагались на печке или возле неё, трапезничали в куту. Если мужчина занимался ремеслом, например, плетением корзин или делал заготовку для ложек, посуды, то такие работы проводились также возле печки с тем, чтобы мусор не разносился по избе. А расписыванием ложек, посуды, мебели занимались у окна, в красном углу; здесь же мужчины создавали рукописные сборники******. В повседневной жизни кроме приёма пищи женщины, дети садились за стол в досужее время: когда читали книги, обучались грамоте или играли в кости (бараньи). Как и повсеместно, порядок нарушался в праздничные дни, когда снимались социальные и этические запреты, и непродолжительно устанавливалось «перевёрнутое» состояние бытия: например, в обрядах, праздничном застолье главное место в доме – под иконами – предназначалось женщинам, мужчины занимали место в нижней части дома (от матицы к входной двери) или размещались в другой (обычно дальней) комнате.
****** Переписывание книг являлось исключительно мужским ремеслом: «Копирование рукописей считалось сугубо мужской профессией, в противоположность Карельскому поморью (Выгу), где преобладал в переписке женский труд. Покойный А.О. Осташов на мой вопрос, почему на Пижме женщины не занимались списыванием рукописных книг, ответил: “Не бабье это дело”». См. об этом: Малышев В.И. Усть-Цилемские рукописные сборники ХVI-ХХ вв. Сыктывкар, 1960. С.18.
К трапезе в семье было особое отношение. «Стол – престол»: ели в строго определённое время, перед принятием пищи и после обязательно молились. За обеденным столом размещались взрослые и дети от семи лет; в зависимости от численности семьи, женщины иногда ели отдельно. На лавки садились, обходя стол «посолонь». Еду на стол подавала старшая в семье, иногда ей помогала невестка. За столом отец осенял себя крестным знамением, что служило для остальных знаком к принятию пищи. Несмотря на требование к соблюдению безмолвия за едой, все предстоящие работы на день традиционно обсуждались за ужином или завтраком; здесь же происходило распределение на работу каждого члена семьи. Правом говорить обладали старший в семье и женатые сыновья, прочие члены семьи ели молча. Детей за разговоры за столом наказывали: обычно старший ударял ложкой по лбу. Из-за стола выходили все вместе, дождавшись последнего едока, обычно младшего.
Отдельно за столешницей в куту ели старики и младенцы, что объяснялось их физиологическими и социальными особенностями: физической немощью – отходом/невключённостью в трудовой процесс, а также стремлением стариков к обособлению от остальных. Старики заботились об «ангельских» душах младенцев и ограждали их от преждевременного общения с миром, что объяснялось уязвимостью детей и их беззащитностью. Пока взрослые были заняты трудом, старики пестовали младенцев – это была одна из их основных обязанностей: «Богу не молись, а с ребёнком водись» – гласит усть-цилёмское присловье: хлебцей водить букв. ‘воспитывать будущего кормильца’. Воспитать будущего работника, кормильца было делом чрезвычайной важности. Младенцы находились под присмотром стариков до пяти-семилетнего возраста, когда дети начинали осознавать свою половую принадлежность, с этого момента о них говорили, как о пришлых в ум. Ещё одним важнейшим критерием их перехода в следующую возрастную группу было обновление зубов, что свидетельствовало об обретении ими определённой силы (например, в семилетнем возрасте ребёнок мог стать колдуном). Детей от семи до 12 лет в молитвах называли отроками, и их наставниками становились уже родители. Специальных переходных испытаний для мальчиков, связанных с «развязыванием ума», не выявлено, тогда как на славянском материале распространённым «тестированием» являлось распутывание узла на сохранённой материнской пуповине. Как и повсеместно, визуальными маркёрами перехода детей являлись причёска и костюм соответственно их половой идентичности.
Важнейшим моментом социальной адаптации детей являлось приобщение их к труду: мальчиков обучали верховой езде на лошади и знакомили с промысловой деятельностью – известны случаи, когда семилетние мальчики уже самостоятельно охотились, проверяли капканы на зайцев и рыбачили береговыми способами. Зимой в их обязанности входило содержание в чистоте хозяйственного двора, оказание помощи по уходу за скотом, обеспечение дома водой и дровами: «Дрова да вода – мужская беда». Девочек обучали и приобщали к работам по хозяйству – доению коров, наведению чистоты в доме, а также рукоделию – прядению и вязанию. Старшие девочки становились няньками в семье или уходили в няньки и в течение нескольких лет «жили в людях». В основном работали за еду. Одна из моих рассказчиц за год заработала на три метра ситца, одну ленту и гребёнку, остальное было высчитано за проживание и еду.
Детей растили и воспитывали личными примерами: они всегда были рядом со взрослыми и в делах равнялись на них. Младшие были в подчинении у старших и их взаимоотношения строились на полном послушании. Устьцилёмы говорят: «Мать непослушной дочери молит мужа пьяницу, непослушному сыну – присталу* лошадь», присловье скорее служило напоминанием детям об их обязанностях. Взрослые контролировали и оценивали работу детей; похвалой служило одобрение такого рода: «Молодец, будешь добрым хозяином (хозяйкой)», при этом детей гладили по голове. На ошибки указывали в шутливой форме, но, бывало, и наказывали. Несмотря на то, что отец имел полную власть над домочадцами, чаще он наказывал (учил) сыновей, мать – дочерей, обычно за их леность, шалости или озорство. Власть родителей над детьми заканчивалась, когда сыновья становились взрослыми или обзаводились семьями, а девушки выходили замуж.
С отрочества дети уже по всей строгости церковных требований соблюдали посты с последующим исповеданием и отмаливанием епитимьи, обучались чтению по Псалтыри, в поминальные дни в их обязанности входило разнесение милостыни, они же разносили именины – пироги по случаю именин: «Когды ле я небольша ещё была, мамка испекла именины тётки Марфы и я понесла. Пришла, говорю: “Марфа Васильевна, я тебе именины принесла, мамка послала».
* Обессиленный.
А она и говорит: “А дедина-то гдейно?» – это обиделась, почему я её дединой не назвала. Раньше ведь род ценили и держали. Это нынь по именам отчествам родников называют. Так вот дети именины разносили. Дней рождений и не знали, когда окрестят, тогда и рожденьё и именины. Меня Парасьей назвали, Парасьям 27 октября, а когды я родилась– хто нынь знат?». По воспоминаниям информантов, разнесение милостыни и именин было желанным занятием детей, поскольку в домах всегда ждали таких гостей, к ним проявляли радушие, например, девочкам говорили: «Марьюшка-душа пришла», мальчикам – «Андрей-белеюшко пришёл», что было приятным для них; детей всегда угощали гостинцами.
С 12 лет дети переходили в группу подростков (недоростки), в молитвах о здравии или за упокой их уже называли рабами божиими. С этого возраста они участвовали в переходных играх, примером мальчишеской испытательной игры «ножики», смысл которой заключался в следующем: необходимо было в каждой из 10 позиций воткнуть нож в землю. Мальчик, справившийся с заданием с первой попытки или проходивший все позиции, становился кандидатом для перехода в следующую возрастную группу.
Традиционно за игрой наблюдали старшие, которые и приглашали испытуемого в свой круг. В этом возрасте мальчики уже наравне со взрослыми выполняли различные виды работ: участвовали в рыбной ловле, и на них уже начислялся пай, служивший критерием их выхода из детского возраста и перехода в следующую возрастную группу. Они копировали манеру поведения взрослых и о них говорили, что начинали мужичиться; к подросткам относились уже с большим уважением: взрослые в разговоре обращались к ним по отчеству, добавляя едрёный мужик растёт, подчеркивая и стимулируя их физическую зрелость. Как и повсеместно, отношение к девочкам было иным, поскольку они были «временными» в семье, и их замужество предполагало траты, а не скопление семейного богатства. Несмотря на то, что их работа по дому была достаточно трудоёмкой и тяжелой, девок – крайне редко поощряли: «Ждали парня в семье, кормильца. Раньше лес отводили так: пай шёл только на парня, если в семье рождалась девочка, то на неё пая не было. На мужчину в год начисляли по три-четыре дерева и в деревне всегда договаривались мужики, кому надо было чё строить, брали лес взаймы, а потом отдавали. Вот парней пуще и берегли».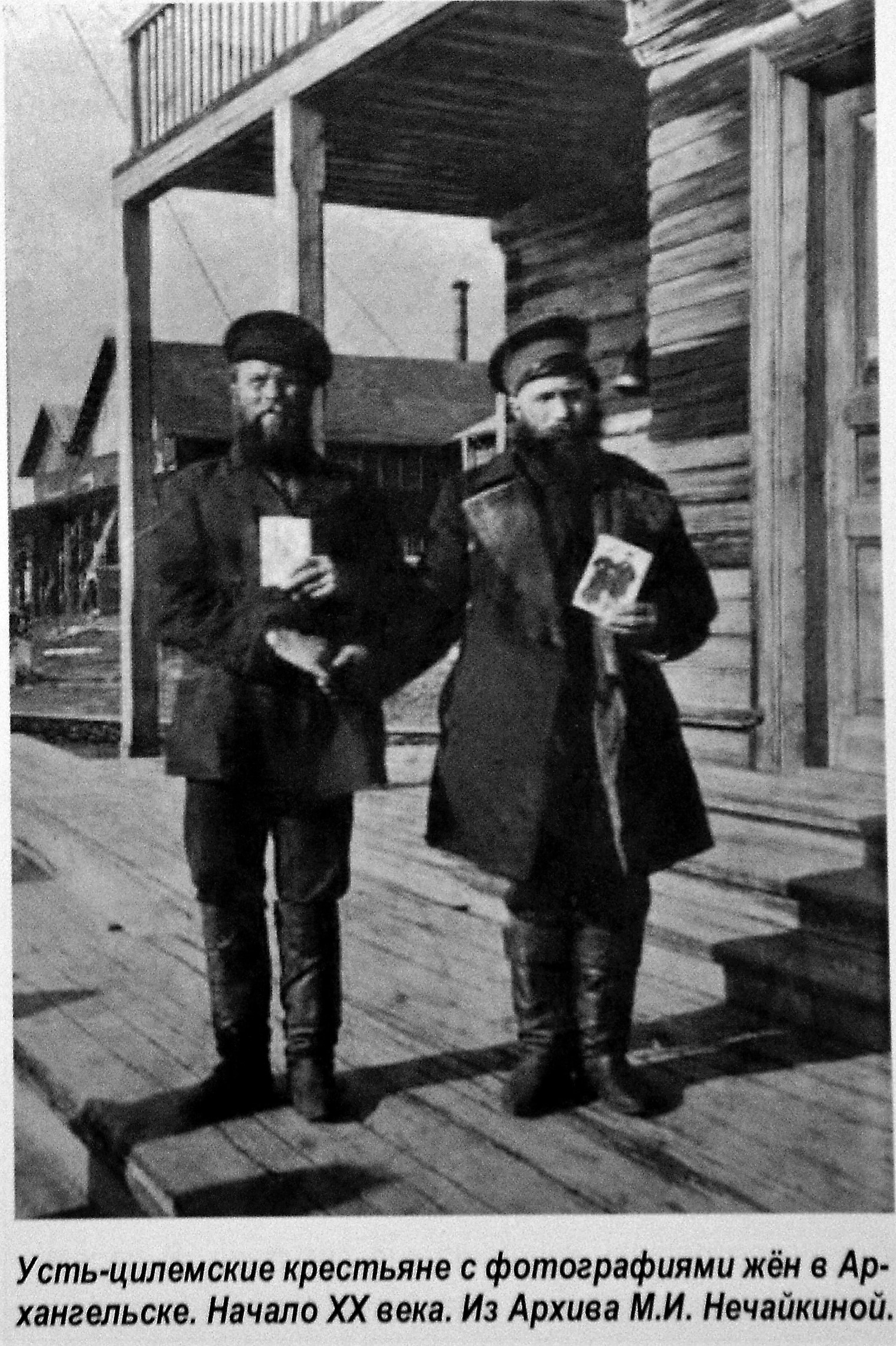
Критерием перехода девочек в следующую возрастную группу было их физиологическое созревание и знание песенно-игрового репертуара.
В летний период все трудоспособные представители семьи занимались земледельческими и сенокосными работами, рыбным промыслом. На сенокосе дети трудились наравне со взрослыми. Несмотря на разделение на мужские и женские работы, труд строился на исключительной взаимопомощи. Женщины в случае необходимости наравне с мужчинами занимались стогованием сена, рыбачили, но женскую работу по дому выполняли всегда сами.
В народной культуре благополучная жизнь мужчины и женщины не мыслится вне их единства, а их взаимоотношения во всей полноте раскрываются в культурологической оппозиции мужской/женский, характеризующей «все сферы человеческой и природной жизни, а также мифологические, религиозные, этические и обыденные представления, противопоставляющем мужское и женское начало в категориях пола, грамматического рода, символики и обрядовых функций». Исследователи XIX века отмечали, что в судьбах старообрядчества, сохранении староцерковной и старорусской культуры значительная роль принадлежит женщине. С.И. Смирнов, писал: «Женщина Древней Руси во все века неизменно была проникнута господствовавшим настроением религиозного консерватизма: сначала она охраняла старорусскую веру, когда на смену её пришла новая греческая, а после – “старый” русский обряд, когда на его место вводили греческие же “новшества”».
В усть-цилёмских деревнях мудрые жёны в семье всегда очень высоко ценились, по этому поводу и ныне говорят: «Дом ведётся бабой», «Житье живётся бабой»; «Добрая жена на земле и на небесах спасёт», т.е. толковая жена наставит работящего мужа на надежную семейную жизнь, а после его смерти отмолит грехи. Н.Е. Ончуков отмечал, что «жонка ценится всяким устьцилёмом, конечно, и как жена, и как хозяйка, но ещё и как з н а т о к и х р а н и т е л ь н и ц а с т а р о в е р с т в а (разрядка в цитате — Г.Д.)». Повсеместно считается, что благополучная атмосфера в семье зависит от женщины, её деловитости, покладистости, умения разрешать конфликтные ситуации. В паремиях отражены различные житейские семейные стороны жизни, такие как взаимопонимание супругов – «Жили не блажили»; «Живут в одно слово падают»; «Живут в одном тели», и несовпадение в делах и мнениях – «Живут как сак да молоха*», «Живут как непарны катанцы». Хвалебные слова односельчан были адресованы женщине как в случае семейного благополучия, так и в иной ситуации – виновницей чаще называли жену и приводили присловье: «Муж пьёт – один угол горит, жена пьёт – все четыре горят». О смиренной, покорной, молчаливой жене церковные учителя писали: «Добра жена и покорлива венец мужу своему есть». В семейных книжницах имелись Цветники, выписки из них с поучениями для женщин религиозно-нравственной направленности, чтение которых и применение правил в жизни, безусловно, выводило женщин на более высокий уровень духовного развития. Большой популярностью у усть-цилёмских читателей пользовались назидательные новеллы из «Великого Зерцала», поучения из «Пчелы» и других сборников, переписываемые местными книжниками. В семьях и ныне хранятся тетради с выписками «Слов» из сборников, такие как: «Поучение к женам, да будут молчаливы», «О добрых жёнах от притчей чтение» (из Цветной Триоди), «Слово Иоанна Златоуста о злых жёнах» и др.
Церковные правила и писания призывали женщин к смирению, покорности, молчанию, «слова» поучений зачитывали в семьях, особенно где росли девочки. В прошлом девушки с малолетства усваивали своё положение бесправия, беспрекословного подчинения и покорности отцу, а затем свёкру и мужу. Об этом свидетельствуют и формы брака, когда мнение девушки на супружество не спрашивалось (подробнее в гл.3). Усть-цилёмские невесты говорили о замужестве: «Не камешек на берегу, не выберешь». Матери так поучали дочерей: «Уши выше головы не бывают» (о послушании); «Замужница не заречница и не запечница»: «Замужье не заречье и не запечье: из заречья переедешь, из-за печки выйдешь, а от мужа не уйдешь/не откажешься». Наставления невесте звучали и в плачах-заручениях:
У г о ж д а т ь надо да свёкру-батюшке,
У г о ж д а т ь надо да свекрови-матушке.
П р и г о в а р и в а т ь надо деверьюшкам.
У н и ж а т ь с я надо золовушкам.
* Сак и молоха – два различных положения бараньи ‘сустав барана, используемый для игры в кости’.
Но, несмотря на призывы к беспрекословной покорности, известны случаи, когда жёны-устьцилёмки прибегали к решительным действиям. Вероятно, их известная независимость и активность обуславливалась и самой жизнью. В малой семье, когда муж длительно находился на промыслах, занимался извозом, жене приходилось самостоятельно вести хозяйство и принимать решения, поэтому говорить о сугубой робости усть-цилемских девушек и женщин не приходится. Например, в случае пьянства мужа и невыполнения им семейно-хозяйственных обязанностей, жена могла обратиться в общину с просьбой о переизбрании его с «должности» старшего в семье и даже снятия его с довольствия. К примеру, о находчивости и известной смелости женщин на Цильме был записан такой анекдот: «Подымаюццэ мужик со своей бабой по Цыльмы в лодке. Толкаюцце шестами, мелко: мужик с носу, жёнка с кормы. Мужик и говорит: “Како ле жена худо толкаисе, не ходко подымаемое”. — “Худо не худо пихаюсь, а от тебя не оставаюсь”. Плывут дальше. Мужик говорит: “Ну-ко перейди в нос, я с кормы буду пихацце”. Плывут, мужик опеть к жёнки: “Худа ты помошнича. Тихо идём”. – “Худа не худа, в впереди тебя еду”. Мужик боле и замолчал, жёнка ему не поддалась». По образу матерей решительными вырастали и дочери. Известно, что практиковались такие браки, когда осознанно в пару соединяли ведомого парня и активную целеустремлённую девушку, которая и становилась полноправной хозяйкой в малой семье. Такие случаи не единичны и в рассказах подобные семьи характеризуются удачными. Таким образом, говорить об абсолютной робости и нерешительности женщин не представляется верным, в большинстве семей жена имела влияние на мужа, даже в тех случаях, когда свекровь прилагала немалые усилия к уничижению невестки, всячески стремилась унизить её в глазах мужа. По этому поводу на Печоре говорили: «Ночная кукушка дневную перекукует», «Ночь — спасительница и смирительница», т.е. здоровая сексуальная жизнь всегда ценилась мужчиной, и он неизменно оставался на стороне жены, но в патриархальной семье не всегда мог открыто стать на её защиту.
При всей своей деловитости жена оставалась в подчинении у мужа, являлась ему опорой, проявляла послушание и не имела права его осуждать: «Самый большой грех той жене, которая мужа не в чести держит». По рассказам, обиженный, униженный муж мог наказать свою жену, случалось, что наводил на неё порчу: «Одна баба мужа своего не в чести держала. Кормила мужа из коробочки, он терпел, терпел и говорит: «Из коробочки меня кормишь и сама будешь как коробочка». Она пошла во хлев, увидела лягушку, бат заклелась да выбросила ей и заболела. Болезнь в ей вошла».
Гармоничная жизнь традиционной семьи строилась на тендеме муж – грамотный, добропорядочный, сильный целеустремлённый человек, являвшийся защитником семьи, жена – тихая, спокойная молитвенница, покорная спутница жизни, поэтому говорили: «Муж – гроза, жена – госпожа». Нарушение гармонии вело к разладу в семье и божественный образ мужа и жены как «одной плоти» разрушался.
В усть-цилёмской культуре наряду с высоким почитанием женщины укоренялись и противоположные взгляды о ней, и причины тому были разные. Женщин сравнивали с «бездумными животными»: «Бабы да овцы – пусты головы», «у бабы волос долог, а ум короток». В какой-то мере этот образ сформировался благодаря мировоззрению женщин, сохранявших и культивировавших языческие представления и верования. Считалось, что женщины были более суеверными, и, несмотря на призывы наставников к отказу от волхований, за которые приходилось отмаливать епитимьи, они практиковали «волшебную мудрость», главным образом, направленную на сохранение семьи: «присушивали» мужей или отгоняли разлучниц; бросали остудну между влюблёнными, изготавливали зелье на всякую потребу и др. За это мужчины их называли бесовы бабы, полагая, что волхвующие женщины прельщены бесом: «бабы – зло, но без них никуда».
«Злыми жёнами» в церковных поучениях называли как грубых женщин, так и «ставших в своих семьях независимыми домохозяйками, с признанным главенством и авторитетом». В какой-то степени укоренению таких представлений способствовала и средневековая литература, где женщина показана уничижительно. И.Е. Забелин пишет: «“Писаное” слово всегда внушало глубокое уважение к истинам, которые оно предлагало. Масса читала, слушала эти мудрые апофегмы, усваивала их своим понятиям, созидала по ним свои убеждения». Безусловно, в жизни имели место и случаи, связанные с грубостью и жестокосердием женщин: «Чёрт с бабой спорил, да не выспорил», «Бабы – исчадье ада». Информанты, повествуя об этом, ссылались на «сказания из божьих книг», где порицались «злые жёны», сравниваемые с дикими животными: «Злые жены льва злее, лютее змей ползающих. Лучше жить со зверем или змеей в пустыни, чем со злой женой». Таким женам предрекалось суровое наказание в загробной жизни – «гореть огнём». В народе говорили: злая жена даётся мужчине за грехи. В народной среде бытовали рассказы о злых жёнах, которые сочинялись по подобию известных церковных новелл или представляли упрощённую форму народного понимания этих текстов:
1. «Притча о злой жене». «Жила жена с мужем и всё своего мужа ругала: вшивик, вшивик и на всякити икорки его приставляла. Надоело ему слушать брань на себя и думат: проучу жонку. Бросил её в воду, топит, ждёт шшо жена станет прошшэньё у его просить, а у ей уш одна рука на воздуху-ту осталась, а она никак, всё на своем стоит, противицце. Дэк напоследок говорить уш не могла, а тольки перстом грозит ему. Не зря говорили: злу бабу учить, да камень точить одинаково». Данный текст сходен с одной из новелл «Великого Зерцала» «Жестокосердие или непокорство: несть гнева паче женского…», возможно послужившей основой к его созданию*.
2. «О злой и ленивой жене». «Мужик работает, работает, придёт домой, а дома еда не наготовлена, не убрано, не вымыто, парева не слиты. Как-то решила жена легчи под образа, думат: притворюсь мёртвой, будет ле меня мужик жалеть. А муж приезжат и говорит: “Слава Богу жена-ведьма померла”. Она приоткрыла один глаз и смотрит на его. Мужик взял топор и отрубил ей голову, приговариват: “Не люблю, когда на мня мертвецы подглядывают”». При этом рассказчица добавила: «Беда греховно дело мужика гневить. Если мужик в гневи жену рячнет, да та умрёт, – грех на жены».
* «Муж с женою единою иде чрез ниву, рече: изрядно зело есть сия земля покошена. Жена же противным образом рече: несть се покошена, но пострижена, сопротивляющуся мужу много. Егда же муж глаголаше яко покошена, а жена глаголаша пострижена. Муж же на гнев подвигшися, верже ю в воду. Егда же в воде вящее не можаше глаголати, протяже руку от воды, творящее знамение перстами наподобие ножниц, являющи яко бысть пострижена и сопротивляющися даже до смерти» // Великое Зерцало.
В сельском обществе всегда осуждалась грубость женщины. По рассказам устьцилёмов, таких было немного; их характеризовали как зубатые, называли скалозубками. В народной памяти сохранялись рассказы как о порядочных людях, так и о непристойных, которые рассказывали в назидание молодым. Например, в с. Нерице по сей день бытует эпитет исачиха, который применяют к недружелюбным женщинам, способным сквернословить: Когда-то давно, ещё в XIX в. в Нерице исачиха жила – это значит жена Исака. Говорят, злющая на язык была, всех в деревне доставла и сейчас, если женщина недобрая, её исачихой называют. Иш кака памятна жёнка была. Одна за всю историю села». В такой ситуации осуждающе говорят: «Женка ругача – мужу позор», «Речна жена да зубная болезнь – одинаково», «Злую жену учить да камень точить – одинаково». Грубость женщин высмеивается и в усть-цилёмских анекдотах: «Приходит бабёнка-верхоконка из нижнего конца и говорит: “Вот беда каки в нижном конце бабы ругачи. Адва** одна от семерых отбилась”». Бывало и мужчины сглаживали семейные ссоры иронично приговаривая: «Не ворчи, ночью всё равно в одно корыцце сложимсе».
Как и повсюду, в патриархальных семьях исследователи отмечают деспотичное отношение к женщине, в том числе и в староверских семьях, где большак мог унизить и жену и особенно невесток, которым было сложно вживаться в новую семью. Е.А. Ляцкий, описывая жизнь устьцилёмов, большое внимание уделил положению женщины в семье, удивляясь косности взаимоотношений супругов, раболепию и смирению жен:
«Выходя замуж, девушка сознательно идёт на побои, всякого рода унижения и оскорбления: трезвый и пьяный муж будет бить её “смертным боем» – первым, что попадётся ему под руку: ремень, так ремнём оглобля, так оглоблей. Закон и обычное право стоят на стороне мужа, и тесть первый станет “учить» свою дочь, если та вздумает перечить ему и жаловаться по соседям. <…> До чего сами женщины свыклись с таким положением, видно из следующего дела, разбиравшегося в местном мировом суде. Молодая женщина, насильно выданная замуж за очень пожилого и пожившего человека, обратилась в суд с просьбой защитить её от истязаний, которым подвергает её муж. Она было убежала к своему отцу, но тот в свою очередь “поучив» её, отвёл назад к мужу. Врачебная экспертиза установила факт нанесения тяжких побоев, и на основании этого ей был выдан отдельный вид на жительство. Тогда обозлившийся муж стал требовать у родителей жены возвращения “запроса», т.е. денег, уплаченных за невесту на свадьбе в виде выкупа. Те отказались – под предлогом, что со своей стороны сделали все, чтобы заставить свою дочь жить у мужа, причём упорно отказывались принять молодую женщину к себе в дом <…> Общественное мнение оказалось всецело на стороне мужа. “Чё фордыбачить, – говорили бабы, – чего прикидывается!.. чего бежать оттого, что он её бил? Какой мужик свою бабу не толкнёт?!.. Тут дело другое не любит, вишь ты, она мужа, оттого и бежит; кабы любила, нешто бы не снесла?»».
** Еле-еле.
Благосклонное расположение свекра и свекрови к снохе зависело от деловых качеств женщины, её трудовых навыков, мастерства, состава приданого и покладистости характера. Немаловажное значение имело рождение сыновей – продолжателей родов. Бывало, что наносимые обиды были беспочвенными, сыновья присоединялись к отцу и не являлись защитниками жён. Случались избиения женщин, о чем свидетельствуют описания путешественников, исследователей XIX века. При этом, недобропорядочные мужчины в своем кругу цинично подмечали: «Колочена бочка дольше живёт». Но чаще муж вставал на сторону жены, утешал её, хотя, не всегда мог её защитить, поскольку принцип старшинства в доме соблюдался неукоснительно. В критической ситуации, когда жизнь молодых становилась невыносимой, они выходили из состава большой семьи и даже выезжали из деревни, и образовывали новый выселок (заживались наново). О трудностях проживания в большой семье свидетельствуют многочисленные рассказы информантов, тексты частушек:
Милый замуж подговариват,
Семеюшки боюсь.
Ты не бойся, глупенька,
Женюсь, так отделюсь.
В большой семье невестка была абсолютно бесправной. На все свои действия в доме она должна была иметь разрешение батюшки или матушки, что отражено в усть-цилёмском присловье: «По уму живёт, по ветру бегает». Дочь-невесту мать поучала: «На сердце ледок, на языке-то медок», т.е. замужней женщине не следовало выставлять свои беды напоказ. В некоторых семьях невестка не имела права даже участвовать в выборе имени своим детям, за неё решала свекровь, как, например, в следующем рассказе: «Ранешно житьё с нонешным не сравнить. Ране свекровы боелись лишно сказать, слушались. Я сына родила в Иван день и хотела его не Иваном назвать, друго имя дать. Когды-ле чула, шшо в день святого родишь и тем же именем нельзя называть, а то человек будет или злым, или бесшасным. А свекрова назвала Иваном и всё, мне и слова нельзя было сказать».
Бывало невестку из бедной семьи, без приданого высоко ценили за её трудолюбие и рождение сыновей. О таких говорили: «Не та молодка, которая приданое принесёт, а та молодка, которая благоданное (богоданное, наживёт»; «Не та счастливая, которая от отца да матери несёт, а та счастливая, которая сама наживает». Покорную молодку характеризовали ладистой, непокорную называли егабиха.
Жаловаться молодой жене в сельской округе было также не принято, в деревне о её взаимоотношениях со свекровью становилось известно из уст последней. О недружелюбной «богоданной матушке» сложены различные присловья, например, её ворчливость сравнивалась с коровьим мычанием: «Корова не свекрова, помычит да замолчит, а свекрова никогда»; за прядением иронизировали: «Куделю допредать, да свекровыну смерть дожидать» (одинаково долго). На похоронах свекрови невестка по традиции в плаксах выплакивала всё своё горе, причинённое ей в семье мужа. Похоронный плач рассматривался частью погребального обряда и являлся важнейшей формой выражения отношения к усопшему, даже в тех случаях, когда в плаксах высказывались обиды. В плаче это было допустимо, тогда как в разговоре следовало говорить о покойном только хорошее; здесь же выплакивались все огорчения, как, например, в этом тексте:
Ты б о г о д а н н а да с в е к р о в а м а т у ш к а (разрядка моя – Т.Д.),
Т ы н е с о з н а т е л ь н а, н е у в а ж и т е л ь н а,
Н е у в а ж и т е л ь н а и н е о б х о д и т е л ь н а,
Я н е м и л а тебе д а н е л ю б а тебе,
Я белым телом себе и делом-работанькой
Никак я не могла тебе унаровить, горе,
У большой семьи да нерассудноей,
Во скудном житьи да малоскудноем,
Я не нужна-важна тебе, не надобна,
Во добре житьи да я жить негодна,
На работаньку да неудобная.
Не пристават моя дело-работанька,
Б о г о д а н н а с в е к р о в а м а т у ш к а,
Богоданная моя да мила Павловна.
Только я нужна-важна да так милой ладе,
Милой ладе, да думе крепкоей.
За милу ладу я походилася,
Походилася да я влюбилася
О своего-то да ладу милую,
О своего-то да думу крепкую.
У ж т ы ж у р и, б р а н и хошь день и ночь меня,
Р а с п а р я й хошь да с ладой милоей,
Р а з л у ч а й хошь детей сердешныих,
Не распарить тебе да с ладой милоей,
Не разлучить да с думой крепкоей,
Твоё-то да чадо милое,
Твоё-то ли дитя мне по круту плечу,
Он по крови да по горячей,
Он по совести да по сусветноей,
Он мне по уму да и по разуму,
По сердцу да по ретивому,
Я на его сердце да положила,
Им сердце да я удобрила.
Не того ли я, свекрова матушка,
Хошь ты ш у м л и в а я, хошь т ы г р о м л и в а я,
Т ы з у б а с т а я, да т ы р у г а т л и в а,
Т ы р у г а т л и в а да в е ч к о т л и в а я.
Я не гляжу на тебя, бедна злосчастная,
Я перенесу, бедна да горе злыденна,
Я для лады да всё для милоей,
Я для думы да всё для крепкоей,
Я в с ё с т е р п л ю да, горе, в с ё с м о л ч у,
От тебя, моя свекрова матушка.
Н е в е з л а с т о л ь к о да лошадь добрая,
Н е с н е с л а с т о л ь к о да мать-быстра река,
С к о л ь к о я т е р п л ю да с к о л ь к о я н е с у,
Тебе спасибо ли, свекрова матушка,
Тебе большо спасибо да с благодарностью,
Т ы з а что меня, бедну, ж у р и ш ь — б р а н и ш ь,
Ты во всяку да пору-времечко.
Только в ту пору да не бранишь меня,
Когда накатится на тя да крепкий тёплый сон,
Только о ту пору да я спокойная,
О ту пору да не бранёная.
Не меньше оскорблений невестке наносила золовка – сестра мужа, которая стремилась выглядеть достойнее её, при том, что порой уступала в деловых качествах. Положение золовок резко менялось, если они оставались в «старых девах», несмотря на то, что девство ставилось выше брака. Их беззащитность не вызывала сочувствия, а обрекала на скорбное существование: насмешки и унижения, наносимые женами братьев, односельчанами были нередким явлением. Их общественный статус возрастал лишь в том случае, когда они становились грамотными в делах веры: «Старые девы, те уж грамотой занимались, а мужики те пока при родителях жили, а потом так — бобылями. У нас в роду тётка Катя была. Прихрамывала на ногу дек и замуж не вышла. Зато уж грамоту знала. Псалтырь читала, детей крестила, ей уважали». В прошлом таких стариц называли христовы невесты. Е. Ончуковым на Печоре был записан текст о взаимоотношениях невесток с золовками, наполненный иронией:
Ай во славном во городе во Кашине,
Да было побоище престрашное:
Как дрались невестушки с золовками,
Как большимя боями все мутовками,
Зарежали горшки да ёни пушками,
Да стреляли из-за каменной стены из жернова…
Подобные побасенки, присказки и ныне информанты сопровождают комментарием «на веках бывало всякое», иллюстрируя личным житейским случаем. О том, что невестки объединялись, и могли постоять за себя говорится, к примеру, в таком присловье: «Взяли молодки верётна, берегите деверья* глазья» В настоящее время некоторые житейские ситуации, связанные с внутренними взаимоотношениями в семье, составляют юмор в мужском разговоре, например, когда предполагается проживание в одном доме двух братьев с семьями. При возведении такого дома информант заметил строителям: «На стены между избами (половинами дома – Т.Д.) не жалейте брёвен. Нынче молодки с долгими ногтями живут. Тонки стены прокопают и глаза друг дружке вычапают». В этом ироничном замечании, безусловно, отражена некогда существовавшая проблема непростых взаимоотношений и между невестками.
По рассказам женщин, мужчины относились терпимее к жёнам братьев и не выражали явного недовольства. В этом случае говорили словами общеизвестной частушки: «Лучше деверя четыре, чем одна золовушка». О недружелюбных, придирчивых родственниках мужа в усть-цилёмских селениях оскорбительно говорили: «Мужья родня в жопе хвоя». Благополучнее жизнь молодой пары, особенно жены, складывалась в малой семье, где муж проявлял самостоятельность и мог защитить жену от нападок родителей и сельчан, говорили: «Если муж жену похвалит, всему миру не захулить».
Даже в самых неутешительных случаях женщина не имела права уйти от мужа и вернуться в дом родителей. Основанием тому были церковные регламентации, следовать которым призывали наставники. В решениях Первого Всероссийского Собора христиан-поморцев (1909 год), приемлющих брак, говорится: развод допускается только в случаях, предусмотренных церковным законом, изложенным в книге Синтагма – «если жена посягнёт на жизнь мужа или если муж будет иметь злой умысел против государства». На практике исключения составляли ситуации, связанные с чародейной практикой: «У каких ле свадьба была и пришли смотреть. А пришли-то знаюшшы и их не посадили за стол. Они назло сделали: молоды прожили восемь месяцев, а меж има так ничё и не было.
* Братья мужа.
Потом родители мужа стали говорить, чё ле делать надо, недобро дело происходит. Потом девку забрали назад. Ране ведь люди всяки были, делали худо некоторы. А так разводиться запрещалось». В других случаях семья сохранялась, жена вынуждена была терпеть побои мужа и унижения его родни до конца своих дней. Даже в тех случаях, когда муж изменял жене, крестьянский мир обвинял женщину, а о разводе не могло быть и речи. И наоборот: по общинному правилу муж мог оставить жену в случае её неверности или бездетности. Если бездетные браки, а таких были единицы, распадались, то мужчина чаще вступал в повторный брак с девицей, женщина – с вдовцом, имевшим детей; говорили: уходила на детей и воспитывала детей мужа.
Количество разводов возросло со второй половины XX века, когда был нарушен традиционный семейный уклад, женщин вовлекли в общественное производство, где они вынуждены были трудиться наравне с мужчинами. Начиная с 1930-х годов, многие девушки уже утрачивали былую кротость, обретали большую решительность, например, могли даже сбежать на следующий день свадьбы от навязанного нелюбимого мужа: «Я от жениха сбежала. А меня замуж выдали тоже за парня, от которого невеста убежала. Мужа-то Тимофеем звали, ну и за его сосватали девку, Ирину. А она дружила с одним парнем – Васей-милиционером. Ну и свадьбу справили, Ирину замуж выдали, а потом на другой день парень Вася забегал, шшо я хотел на Ирины жениться, Ирина-та от Тимофея и сбежала, девки ей помогли. Хош она и ночь уж ночевала, но уговорила мужа не трогать ей. Если девка не спала с мужиком, дэк и могла отойти. А я с девками пошла свадьбу ихну смотреть, олабыши ране всё делали. Мы пришли, двери заложены, Иван Сергеевич – отец жениха ходит ругаецце, его утешают: нову девку твоему сыну найдём и стали меня сватать за Тимофея. Нас тут и женили. Так вот и получилось: Ирина от моёго Тимофея убежала, я от Ивана Зотеевича убежала. Иван Зотеевич роду худого был, бат бы доброго, то и бы согласилась».
В традиционной семье женщины большое внимание уделяли духовной стороне жизни: воспитывали детей в вере, обучая их правилам благочестия; старшая в доме вела синодик и отслеживала дни памяти предков, совершала поминовения, распределяла милостыню, которую чаще разносили дети. В старческом возрасте женщины по местам поселений объединялись и коллективно совершали требы по усопшим в частных домах.
Овладение церковной грамотой и духовное служение были итогом спасительного земного пути, выводившие людей на особый уровень чистоты, рассматриваемый верующими людьми как этап подготовки к переходу из временной земной жизни в жизнь вечную.
Другой не менее значительной частью жизни замужней женщины являлось транслирование обрядово-песенной культуры. Только замужняя женщина, имеющая детей, становилась наставницей и активной участницей в семейных и календарных обрядах, как исполнившая своё природное предназначение, и в силу этого способная благотворно влиять на исход обрядов. Старухи-няньки являлись основными носителями и хранителями архаической информации; становились наставницами, знакомившими детей с песнями, сказками, правилами обрядового поведения. Т.В. Цивьян пишет об этом: «Учитывая эту тенденцию, можно сделать допущение, что преимущественное внимание к сфере женского, обращённой в о в н у т р ь (разрядка в тексте – Т.Д.), в пространство с в о е г о, скрупулёзная её детализация есть вообще характерная черта кодифицированного поведения в архитепической модели мира, где сфера м у ж с к о г о, обращённая в о в н е, в пространство ч у ж о г о (охота, война, отчасти земледелие и скотоводство)».
Супружеские отношения
В русском традиционном обществе соитие мужчины и женщины вне брака запрещалось Церковью и считалось исключительно блудом, но и в браке половые отношения характеризовались двойственностью: с одной стороны, коитус рассматривался житейской необходимостью для продолжения рода и в прошлом наделялся генеративной символикой и совершался для обеспечения удачи, плодородия; с другой, – с позиции христианской морали считался «греховной похотью», «нечистым делом». «Нечистая» семантика приписывалась смерти, наступившей при соитии, признававшаяся самой греховной и называвшаяся смертищща: «Семьдесят семь смертей и смертищща». О таких усопших говорили: «помер (померла) в погани». По ним запрещались индивидуальные поминовения. У нижнепечорских староверов был выработан локальный вариант поминовений, критерий к которому определялся степенью духовной чистоты человека.
В усть-цилёмской лексике гениталии мужчины и женщины имели обобщённое название грешно / срамно место. Эвфемизмы, отражающие мужские и женщские органы, имеют различную природу: уда ‘пенис’, старославянский термин, использующийся в том же значении; пень осиновый* букв. ‘крепкий, ядрёный’ – иронизировали над похотливыми мужчинами; шишка; об импотенте говорили: пустое огузье. Пирог, оборона, марфа/манька – номинации женского полового органа; мужчины иронизировали над женщинами: «Баб тех не убьют, от хулиганов своей обороной отобьются»; «Девки, ешьте творожок, чтоб был мягче пирожок», – шутили парни над девчатами.
Вариативность обозначений соития определялась крестьянским пониманием о процессе с позиции оценочного суждения как «праведном» и «неправедном» деле, т.е. по правилам или вне правил относительно естественного распорядка человеческой жизни. О коитусе в браке говорили: жить, шоркаться, шороханьё, шорканье, около шорканья ‘о приближении ночи’, в оглобли запускать / из оглоблей не отпускать букв. ‘разрешить половой акт / не отпускать от себя мужчину ’ (о женщине) – выражение используется исключительно в мужском кругу, например, опоздавшего мужчину спрашивают: «Что, жёнка из оглоблей не выпускала?». Проткнуть ‘лишить девственности’: «Молодка – проткнута серёдка». Половой акт вне брака имел номинации: трести, драть: «Кого дерут, тех взамуж не берут». О зачатии в браке свидетельствуют лексемы засеять, спосеять; вне брака: натрусить ‘наплодить детей вне брака по разным местностям’; нажить, принести со стороны, наиграть, сколотить.
В староверческой культуре в XVII—XVIII веке аскетизм признавался духовными лидерами единственным путём к спасению, в силу обстоятельств, связанных с утратой священства и невозможностью заключения браков церковным венчанием; прочие браки признавались блудом. Позднее коитус в браке, благословлённом родителями, рассматривался староверами как «дело Божье», сведения об этом усть-цилёмские староверы получали из писаний и неукоснительно следовали церковным предписаниям, табуировавшим половые отношения во все посты, в канун праздников, по средам и пятницам, связывавшимися с предательством и распятием Христа, а также в субботу и воскресение, когда «возносится Богу духовная жертва». В правилах Тимофея архиепископа Александрийского говорится об обоюдном желании мужа и жены, не имеющем в этом случае сатанинской похоти в строго определённые дни – понедельник, вторник, четверг: «Не лишайте себе друг друга, токмо аще хощете по совещанию се твори ти: да не искушает вас сатана».
Ветхозаветная история о первородном грехе сформировала представление о женщинах в целом как похотливых существах, совращающих мужчин. Жизнь замужней женщины регламентировалась церковными и народными предписаниями: молодые женщины не имели права без разрешения покидать территорию двора, при необходимости следовало просить разрешение у мужа или свёкра; следовало соблюдать требования в одежде – запрещалось прилюдно появляться без платка, оголять руки и ноги, носить приталенное платье.
О том, что слово мужа – закон, а неповиновение ему могло иметь различные последствия, знали все женщины, но в определенных ситуациях, бывало, поступали своенравно. Например, несмотря на то, что житейским правилом сексуальное общение запрещалось в бане и на печке, при случае женщине следовало повиноваться мужу с тем, чтобы избежать неприятностей, о которых, к примеру, повествуется в следующем рассказе о реальном событии и в «притче»:
- «Раньше ведь беда строго жили. Рассказывали, одни мылись в бане и мужик попросил, а жена побоялась: в бане, да против воскресенья, испугалась и убежала из бани. Муж как разъярился, стал материться …, а потом на следующий день заболел и невдолге умер. А потом наставница Евдокимовна сказала, раз разгневала мужа, грех на тебе. Женщине положено дать мужу, где бы он не попросил. И смерть мужа подумали, что наступила наскоро, может оттого, что прогневил Бога и святых, да в бане, а сам не покаялсе и так вот случилось. Грех оказался на жене. Наставница сказала: наперво надо было правилом от Бога смотреть, мене** греха».
- «Притча така есть. Один мужик попросил свою жену, а она отказала. Он пошёл и согрешил с кобылой. Пришёл к дому, рассказал жены и летит чёрный ворон. А жена говорит: “Раз ты так поступил, то за тобой и летит». А ворон её заклевал до смерти». Рассказчица прокомментировала: «В этом грехе баба виновна, ведь сколько преж рассказывали, мужик пойдет на сторону и другого человека в грех введёт, а виновата за двух будет одна жена. В правилах писано: мужики могут не только с женщинами, но и с животными. Женщина должна мужа уберегчи».
* Черенки для лопат и вил делали из осины, считавшейся прочным деревом: «Осину очистить от шкуры, она закостенеет, будет крепкой и долго служит. Ратовище (черенок – ТД.) из осины делали, оглобли» (ПМА. Записано от И.А. Бабикова, 1940 г.р., д. Чукчино в 2004 г.)
** Меньше.
Таким образом, в разрешении семейно-брачных вопросов наставники призывали, прежде всего, руководствоваться церковными правилами; дедовские обычаи, занимавшие значительное место в их жизни, в разрешении этой проблемы признавались второстепенными.
В славянской культуре сохранялись убеждения, согласно которым девушка должна была сохранять целомудрие в первую брачную ночь, иногда первые три ночи с тем, чтобы не лишиться любви мужа и его родни. Рудименты этого обычая представлены и в усть-цилёмской культурной традиции, имевшие иное объяснение: выражение верности и преданности мужу. Но не все мужчины были готовы к такому испытанию, случалось, что от невест с подобными установками отказывались, как в следующем рассказе: «Я замуж выходила в первый раз и мужика ночью от себя гонила, выполнила наставление матери, но муж после третьего дня сбежал. Я девушкой во второй раз замуж вышла, но уже больше мужика не отталкивала и хорошо с ним всю жизнь прожили».
Блюстителями духовного порядка в доме были старухи, которые особо контролировали половое поведение женатых членов семьи, особенно молодых: «Раньше все жили в одной комнате и старики следили, чтобы в недозволенно время не шоркались. Старухи нам, молодым чё ле, бывало, подсказывали, поучали, а потом скажут: “Бабка глупа, бат древлю уж,” – и как так и надо. А сами за молодожёнами особенно следили – спят-не спят. Мы поженились в феврале и спали в катагари в клети, так до лета и прожили там. Дэк бабка ночью, будто в туалет пойдёт и к нам всегда заглянет в катагар, посмотрит в обнимку спим или нет. И как так и надо. Бат когда и затаивалась, подслушивала, така жись была не только у нас, у всех деревенчких. Бывало, молодым остудну кинут, и они спят спиной друг к другу, – опеть старухи про то знали, подглядывали, на их не обижались, стары ведь. А молодых потом лечили или чёле делали». О том, что сексуальная жизнь семейных пар была делом «добрым», говорится в следующем рассказе: «Когда в деревню стали возить кино, старики не ходили, считали бесовским делом. Одного старика спрашивают: “Пошшо в клуб не ходишь? Там показывают, как целуются. Беда, весело”. – “Тьфу ты! Како уж тут добро дело: вот когда сыновья со своими жёнками за занавесками, да мы с хозяйкой, да как зачнем избу шатать – вот тут добро дело и очень весело. А вашо кино пустое и бесовско”».
Продолжение рода – тема очень трепетная и важная для каждого человека, в староверческой среде ей придавалось особое внимание, и следование наставлениям старообрядческих учителей было делом неукоснительным. Большое значение придавалось нравственности женщины, её духовной чистоте, преданности мужу. Считалось, что в ином случае неблагочестивое поведение могло пагубно отразиться на её потомстве: «Аще вином упивается жена – у таковых рождаются плешаты (дети – Т.Д .)». Некоторые рассказы информантов, например, о неповиновении жены мужу, явно являются народной обработкой поучений протопопа Аввакума: «Жена отталкиват мужа, дети косы родятся»; «гуляша жонка детей своих обрекат на пагубу» и др. О наказуемости неповиновения жены мужу Аввакум пишет: «Если жена к мужу своему стропствует ложу его, есть писано, у таких дети рождаются не благообразны: или косы, или брилаты, и немы». К зачатию ребёнка необходимо было подготовиться: очиститься от «бесовских» помыслов, в кои для мужчин входили и мысли о блуде, молитвой в 50-100 поклонов: «Аще не измывся мечтаний, со женою своею зачнешь во утробе детище – таковое или бесно родится, или безумно…». Перед половым актом необходимо было снять нательный крест, который вновь надевали после омовения. Строго запрещалось соитие с роженицей, в первые 40 дней – её называли полой, нечистой.
Устьцилёмы следовали церковным правилам и вместе с тем стойко сохраняли архаические обычаи, в частности, сексуальные игры, направленные на обеспечение удачи, плодородия. Перед тем как новую сеть, приготовленную к использованию, применить в деле, семейная пара должна была на ней совершить половой акт, чтобы рыбаку сопутствовала удача и рыба пятналась. Достижению желаемого успеха мог способствовать и приём, согласно которому на развёрнутой и приготовленной к погружению в воду сети должна была посидеть посторонняя женщина, например, проживавшая в другой деревне. По окончании уборочных работ благодарили землю за обильный урожай и совершали магический обряд оплодотворения земли для получения нового урожая: женщины заманивали на поле крепкого мужчину, который не возражал против женских забав, засовывали ему в штаны сноп из колосьев, сжатых последними с поля, и катали его по земле. В период сенокосных и уборочных работ взрослые поддерживали развлечения молодёжи, в частности, парное катание по земле, связывавшееся с имитацией совокупления, направленное как на получение урожая, так и определение брачных пар.
В народной культуре особо осуждался «блуд». К гулящим мужчинам общество относилось более снисходительно, тогда как женщины подлежали всеобщему осуждению, а муж мог отказаться от жены. О гулящих мужьях говорили: «Имеет две жены: одну у квашни, другую у мошни». О женщинах говорили, как о лёгкой на передок.
Проблема дефицита мужчин всегда существовала в Усть-Цилёмской волости. Этим отчасти объяснимо рождение внебрачных детей. По ревизской сказке за 1834 год из 10 переписанных деревень в трёх было выявлено рождение внебрачных детей, общая численность которых составила 77 человек: шесть женщин имели по трое детей, четыре – по двое, у 50 женщин было по одному ребёнку, один ребёнок был записан на отца (табл. 2).
В деревнях, где численность мужчин и женщин была равной, факты таких рождений не выявляются. В оправдание внебрачных рождений информанты рассказывают такую притчу: «Будто Бог сказал так. Он по парам всех создал: одному пару, другому пару, а какой ле пара не досталась и Бог сказал: “Меж има пронимайсе”. Вот и баб всегда больше, чем мужиков, то бабы и рожают в девках».
Е.А. Ляцкий и Ф.М. Истомин факты незаконного рождения детей обосновывают общей распущенностью усть-цилёмских женщин: «Общий уровень нравственности устьцилёмок очень невысок, и едва ли незаслуженно пользуется в этом отношении дурною славою на весь край»; «…Нарушение целомудрия до брака вообще считается не только дозволенным, но вошло, кажется, в обычай. На вопрос: “Сколько у тебя детей?” вы всегда можете получить ответ: “До свадьбы было трое, да с Иваном прижила пятерых”. Сами родители корят девушку, если у неё нет ухаживателя: “Ты видно в людях не годна, никто за тобой не ухаживает”». Священник Бугаевского прихода свидетельствует, что старухи поучали девушек: «Лучше девкой народи ребят, хотя бы столько, сколько пней в лесу, только в церковь (для брака) не ходи, так все Бог простит». Подобные рекомендации стариц, по сути, санкционировали добрачные половые отношения молодёжи в деревнях по Печоре, хотя родители и стремились уберечь своих детей от них. Ю.В. Гагарин связывает известную свободу нравов устьцилёмской молодёжи «с проникновением в этот край федосеевщины, в частности, их бракособорного учения, по которому вступление в брак считалось большим грехом, чем открытый блуд». Данное утверждение представляется не бесспорным, поскольку факт утверждения на Нижней Печоре федосеевсхого учения не подтверждён в ходе полевых исследований, а поморские беспоповцы также отрицательно относились к браковенчанию, как осквернению, считавшемуся неизмеримо большим грехом, чем плотское сожитие в «антихристово время». Отчасти объяснение внебрачных рождений усматривается с точки зрения житейского понимания незавидного статуса «старых дев», согласно которому девушки, оставшиеся в старых девах, должны были покинуть сельское общество – уходили в скиты, после их упразднения оставались в отчем доме. Обабившаяся женщина продолжала участвовать в обрядовой жизни общины, тогда как одинокая старая дева из неё исключалась.
Во все времена и во всех местностях встречались незаконнорожденные дети, и причины тому были разные. Общественное мнение с осуждением относилось к внебрачным рождениям, народ слагал присловья, обличающие девиц «лёгкого поведения» и ситуацию в целом. Например, на Печоре о девицах невысокой нравственности иронично говорили: «у девиц до замужья зарастёт». В XX столетии отголосок прошлого составлял мотив для мужского юмора: «Ну чё баба-та какова, мужики-ти хвалят ле?» Не исключено, что подобные шутки слагались и с целью предупреждения, оберегания девиц от таких случаев и позора в целом.
§ 4. Родство и его поддержание
Развитие большой семьи, взаимоотношения её членов отражены в наименованиях родства и свойства. Следует признать, что у устьцилёмов, как и вообще у русских, до середины XX века круг людей, признаваемых родственниками, был значительно шире и охватывал не только кровных родичей, но и свойственников (родных по браку). Близким родством признавалось и кумовство или духовное родство – крёстные-крестники и их семьи. Несмотря на высокий статус духовных родителей, их выбор был сопряжен с трудностями – дефицитом крестных. Крестничество являлось надёжным социорегулирующим институтом, упорядочивающим взаимоотношения полов, о чём свидетельствуют и наблюдения Ю.В. Гагарина: «Многие устьцилёмы идти в кумовья не желают. Согласно правилам, дети кума и кумы не могут вступить в брак с крестником, поскольку это считается кровосмешением». Поэтому крёстных выбирали из числа родственников или свойственников, чем дополнительно укрепляли родственные связи.
В отличие от некоторых севернорусских местностей, у устьцилёмов понятие «родня» распространялось на всех родственников по прямым и боковым линиям родства, как проживавших единым хозяйством (в одном хлебе), так и раздельно, в том числе в разных деревнях. Все родичи по отношению друг к другу назывались родники; женщины объединялись в названии родницы. Родистыми назывались семьи с большим количеством родственников как по прямой, так и боковой линии родства,. Родниться ‘поддерживать отношения между родственниками’, говорили: «Ездили друг дружки в гости, роднились». Общепринятыми были термины по прямой линии родства, за исключением прапрадеда и прапрабабки – пращур, пращурка; прадед и прабабушка – правдед/правдедко и правбаба/правбабка. Родственники по боковой линии имели отличия: двоюродные и троюродные братья и сестры именовались братан и сестренница с добавлением имени; тёти и дяди имели диалектное называние дедя, тётка; свойственники к невестке обращались не иначе как молодка, молодушка, к зятю – зеть, зетило, зетёк без добавления имени, а в разговоре о них добавляли имя, поскольку невесток в семье бывало несколько, как и зятьёв; к жене дяди обращались дедина, когда говорили о конкретной женщине, то добавляли имя её мужа, например, дедина Ваниха. Племянников было принято называть по имени, но обязательно подчёркивали степень родства, например, при встрече радостно говорили «дорога племенниця пришла, проходи, садись, скажись…».
Родственники по линиям родства мужа и жены назывались свойственники; своиться ‘поддерживать дружеские отношения между родами мужа и жены’. Родители мужа и жены обращались друг к другу не иначе как сват и сватья, дорогой сватушко, дорога сватьюшка; собирательно сватовья. Сестра мужа именовалась золовка, сестра жены – свесья; брат жены – шурин, шуряк, а брат мужа – деверь. Для людей почтенного возраста такая терминология актуальна по сей день, они активно используют её в рассказах, воспоминаниях.
Если в браке соединялись равнозначные трудолюбивые роды с хорошей репутацией, то взаимоотношения строились на взаимном уважении. Бывали и исключения, о чём свидетельствует такой рассказ, передающий заносчивость родителей девушки и находчивость родителей парня: «Сватья приехала дочерь посмотреть, навестить. Сватья сватьи и говорит: “Наша Анна чайна, а изба как байна». Это захотела как высоко свою дочерь поставить. А сватья ей и отвечат: “Никака и ваша Анна: ни туш, ни плеч один горбечь”. Обе сватьи и поняли друг дружку. Одна другой не поддалась». В целом же стороны устанавливали дружелюбные отношения, способствовавшие добропорядочности, взаимопониманию, что, конечно же, служило поддержкой для молодой семьи, укрепляло рода.
Поддержанию родственных отношений способствовала трудовая взаимопомощь и праздничное общение, заключавшееся в столованиях-гощениях, устраиваемых поочерёдно в домах родичей. В праздничные дни собирались родственники не только проживавшие в одной деревне, но и из окраинных. Размах гулянья определялся избами и столами: «Раньше родство ценили. В праздники созывали отовсюду, заказывали к празднику через посыльных или кто едет в деревню, через того человека приглашали. Собирались гости в двух избах, сидели, в каждой по четыре, пять столов поставят. Родство ценили и берегли. Родны, двоюродны, троюродны, сватовья – все собирались. А потом у других гостят. Говорили: не в гости походишь, а по гостей. Собирались, песни пели. Мы с женой в Боровскую за 30 километров ездили на лошадях, там и ночевали, а наутро обратно ехали. Раньше люди приимчивы были». Родство очень высоко ценилось и утверждалось. Сплачивало пение, по рассказам продолжавшееся «день и ночь»: «Приезжали песни попеть, здесь беда пели. Приходили даже смотреть госьбу, послушают как поют, потом бабы будут меж собой вести, кого конуют, кого хвалят, така жись была. А песни-ти те пели, хороши певуны были, пижемцы особенно, много песен знали». Репертуар был настолько велик, что в период Рождественских гуляний, длившихся неделю и больше, не успевали «перепеть» все песни: «Пижемцев седунами называли, потому что в Рождество по целой неделе собирались и пели песни. Коров обрядят, печи протопят и обратно за стол. Так песни любили петь. Это для людей отдушина была. Труд был тяжелым, и в песне они как бы сообща отдыхали. А главное за неделю в песне не повторятся».
Из личных встреч: в 2007 году, утром, приехав в д. Боровскую, я застала такую ситуацию: сидят две сестры в состоянии совершеннейшего блаженства. Спрашиваю, каково житьё-бытьё, отвечают: вчера сестра из Усть-Цильмы приехала, собрались роднёй, попели маленько… с обеда до утра. Традиция петь семьями отмечалась разными исследователями в течение всего XX столетия. По итогам экспедиционных исследований 1929 и 1955 годов, М.П. Колпакова отмечала, что в усть-цилёмских деревнях по-прежнему поют семьями: «Для сохранности песенной культуры очень много значит семейная преемственность, поскольку никаких способов знакомиться с песней у местной молодёжи нет». В годы колхозного движения большое значение стало обретать деревенское коллективное пение, когда сообща трудились на лугах, а в периоды отдыха – пели.
Известен курьёзный случай, когда в 1950-е годы по усть-цилёмским деревням было разослано распоряжение прислать в Усть-Цильму певческие коллективы на смотр и «в деревнях совершенно не поняли, что это значит, и поехали в Усть-Цильму целыми колхозами, так как поют там все, а никаких хоров там нет». О характерной особенности печорского пения, заключённой в семейной или деревенской «ансамблевости», фольклористы пишут: «Поют устьцилёмы и пижемцы давно сложившимися коллективами (по родству, месту жительства, возрасту, общинной принадлежности), случайные и временно возникшие ансамбли почти невозможны (редко собирателю удавалось уговорить петь певцов вместе, если прежде они этого не делали). Устойчивость певческих коллективов служила важным фактором сохранения песенного репертуара и песенных текстов». По воспоминаниям рассказчиц, в пении высвобождались от трудового напряжения, пели всегда – и при гощениях в праздники, и в будни за работой, даже в годы войны: «Песня дух подымала, помогала выживать. Все вместе попоём, будто крепче ставам*, усталось уходит. Родители пели, дети пели».
* Становимся
До начала 1950-х годов сохранялись и активно бытовали другие жанры, в частности, духовные стихи, сказки, которые рассказывали и исполняли старцы, по возрасту оставившие лирическое пение. Долгими тёмными зимними вечерами они рассказывали различные истории, сказки, народные обработки церковных сказаний, пели былины. В домах умельцев-сказителей собирались деревенские жители, перенимавшие тексты и транслировавшие их в своих семьях: «Старин-то больше десятка знала, всё от свёкра перенимала. Тот много знал, целы сутки, бывало, певал. Старики-ти ране всё уж старины да стихи пели, песни-то мало пели. Деверья певали-то со свёкром». О знатоках-сказителях писал Н.Е. Ончуков: «Сказочников таких воистину прекрасных, как на Печоре, ни в Поморье, ни в Олонецкой губернии я не нашёл». Эта традиция прервалась, когда в деревнях начала развиваться «клубная» жизнь и досуг молодёжи организовывался в домах культуры, а старики по-прежнему проводили вечера в кругу семейного общения и пения. Благодаря семейственности сохранялись фольклорные жанры, в то же время фольклорные и трудовые традиции объединяли роды. Многими устьцилёмами утрачены родственные связи, уходят в прошлое и песни, называемые на Печоре старинными.

Семейное празднование золотой свадьбы Ивана Клементьевича и Натальи Малафеевной Чупровых. Юбиляры с детьми. Ц. Боровская, 1978 год. Из семейного альбома В.И. Носовой.

Семейное празднование золотой свадьбы Василия Петровича и Степаниды Васильевны Носовых, вырастивших 10 детей. С. Усть-Цильма, 1979 год. Из семейного альбома В.В. Носова.
В постсоветский период, когда в обществе назрела острая проблема духовного обновления, государственные деятели вспомнили о традициях и предложили вновь обратиться к истокам традиционной культуры. В 1990-е годы идея национально-культурного возрождения стала одной из важнейших в культурном строительстве России. В 1990 году в с. Усть-Цильма состоялся I (Учредительный) съезд общества «Русь Печорская». В принятой Программе были сформулированы основные задачи: всемерно содействовать сохранению и развитию самобытной культуры Усть- Цильмы, её бытового уклада, народного творчества, самобытного древнерусского говора, народных промыслов, традиционного костюма, горочных гуляний. В рамках этой программы и зародился уникальный проект «Родовой дом», цель которого – укрепление и сплочение семей, которые в современных условиях начали утрачивать былой авторитет и надёжность. Его автором является Татьяна Дмитриевна Вокуева, представитель известного в Усть-Цильме рода Анхиных, ныне проживающая в г. Москве и возглавляющая московское представительство «Руси Печорской». В 2004 г. при поддержке Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» была установлена первая мемориальная доска на родовом доме Т.Д. Вокуевой. К настоящему времени уже установлено восемь досок на родовых домах: Анхиных, Ваниных, Сениных, Карпуниных, Никишиных, Горьких, Глухиных, Фёдоровых. Многим домам свыше 100 лет. День установления мемориальной доски на родовом доме устьцилёмами признается праздником рода, на который съезжаются его представители, возобновляется некогда утраченное общение, устраивается застолье, за которым вспоминают о дедах-прадедах, их славных делах, поют старинные песни, забытые во многих российских местностях.
С 2008 года в родовых домах начали строить семейные музеи, два из них уже действуют и пользуются большой популярностью, как у населения, так и у приезжающих в Усть-Цильму туристов, исследователей. В реализации данного проекта устьцилёмы видят ещё одну форму сохранения культуры, преемственности поколений и верят, что «Родовой дом» становится доброй жизнеутверждающей традицией.
Развитие семьи в советский и постсоветский периоды
Существенные изменения в семейном вопросе произошли в советский период, когда женщины вынуждены были наравне с мужчинами трудиться на производстве; произошли изменения и в составе семьи, и в её устройстве. Постепенно сократилась рождаемость, женщины обрели самостоятельность и активизировали разводы. Мужчины в своём кругу начали называть таких женщин козухи и с опаской относиться к созданию браков с девушками-активистками. Лидерство женщин на производстве получало продолжение в семье, к чему не каждый мужчина был готов и, бывало, семьи распадались.

Сидят: Пётр Осипович и Степанида Михайловна Носовы, в центре дочь Степаниды – Варвара с дочкой Ритой. Стоят: Василий Петрович Носов с сыном Петром. С. Усть-Цильма, 1949 год. Из семейного альбоиа В.В. Носова.
Ныне существуют исключительно малые семьи, молодожёны сразу после свадьбы начинают самостоятельную жизнь, но используют помощь родителей, например, в строительстве дома, воспитании детей. Современные жёны воспитаны в условиях внецерковной жизни, не имея кротости и смирения, в жизни руководствуются известной поговоркой «Муж – голова, жена – шея». Утрата веры молодёжью называется старожилами усть-цилёмских деревень главным фактором разводов.
Перемены жизни на селе отразились на демографической ситуации (таб. 3).

Таблица 3. Количество рождений по записям актов гражданского состояния в актовых книгах ЗАГСа Усть-Цилемского района за три десятилетия XX-XXI вв.
По данным Усть-Цилемского ЗАГСа, в период с 1927 по 1936 годы число рождений в среднем составляло свыше 500 детей в год (за исключением периода Великой Отечественной войны (1941 год – 510, 1942 год – 442, 1943 год – 149, 1944 год – 214, 1945 год – 282), тогда как средняя смертность составляла 412 случаев. Спад рождаемости начался с 1963 года и к 1996 году количество рождений снизилось до 214. В этот период происходит спад показателей смертности и составляет в среднем 150 случаев. Снижение этого показателя напрямую связывается с изменением в хозяйственной деятельности – уход от промысловых занятий и вовлечение населения в колхозное строительство. В XXI веке количество рождений не превысило 185 случаев, самый низкий показатель составил в 2009 году – 146 рождений, тогда как показатель смертности вновь возрос в сравнении с предыдущим периодом в 1,8 раза. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность Усть-Цилёмского района составляет 13036 человек, что по сравнению с 2002 годом меньше на 1264 человека; зафиксировано 27 человек в возрасте от 90 лет и старше, 2 человека отметили свой вековой юбилей; 297 человек, старше 80 лет. На 1000 мужчин в возрасте от 16 лет и старше приходится 1051 женщина того же возраста. Во второй половине XX века в Усть-Цилёмском районе проживало 109 матерей-героинь – женщин, вырастивших и воспитавших до трудоспособного возраста 10 и более детей.
С 1990-х годов стала ослабевать система помочей между сельчанами. В суровое для россиян десятилетие, называемое в народе «страшным», каждый выживал, как мог. Крестьяне рассказывают: «В военное время все держались друг за друга, поддерживали, тут народ как подменили. Копейка стала всё решать. Молодёжь деньги стала ценить превыше родства». Сохранявшиеся веками трудовые родственные связи постепенно начали обретать коммерческий характер: помощь стала оплачиваемой, об этом сокрушённо рассказывают старожилы сёл, предвидя в этом духовную гибель людей. Как и повсеместно, сохраняются братско-сестринские связи, но значительно ослабели отношения с дальними родственниками; семейный круг общения пополнен избирательно-дружескими взаимоотношениями (односельчане, коллеги по работе).
В целом для усть-цилёмской семьи, её устройства были характерны как общие черты, свойственные русской семье, так и местные особенности, большей частью конфессионального порядка. Высоко ценилось родство, его поддержание связывалось как хозяйственной необходимостью – получением помощи в делах, так и утверждением родов, семейных духовных традиций, памяти предков. Поддержанию порядка в общине был подчинён институт брака. Выбор брачных кандидатур являлся не только семейным делом, но и общественным, как говорят устьцилёмы «Купно молились, купно трудились, купно радовались» – в этом проявлялась сила староверов, способность выживать в самых жёстких климатических условиях и обстоятельствах иноэтничного/инославного окружения, сохранения конфессиональной и этнической (русской) культуры.
Глава 2
БРАК И БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
§ 1. Отношение староверов к браку
В сложные трагические послераскольные времена для «остальцев древлего благочестия» остро стал вопрос о существе брака, который при утраченном священстве заключался без венчания и признавался «блудом». Положение осложнилось уже к концу XVII века, когда священников, поставленных до избрания патриарха Никона (1652 год), уже практически не осталось. Единственный епископ, не принявший церковных нововведений, – Павел Коломенский при невыясненных обстоятельствах трагически погиб в 1656 г. и последователи «старых книг и обрядов» были лишены преемственности в священстве, рукополагать стало некому. В силу таких обстоятельств среди последователей древлеапостолького учения произошли разногласия и постепенно наметились три пути дальнейшего развития: часть старообрядцев стала венчаться и крестить детей у священников официальной церкви, перешедших в староверие через проклятие ересей (беглопоповцы). Другие совершали таинства в официальной церкви, но по старым служебникам. Такой вариант действий поначалу одобрял протопоп Аввакум: «По старому служебнику и новопоставленный поп, аще в нем дух не противен, да крестит ребенка. Где же детца? Нужда стала». Третий путь избрали староверы, отошедшие от «новой» церкви, объединившиеся в группу беспоповцев, считавшие, что истинное священство на земле изжито, а венчание у новопоставленных священников неприемлемо, и поэтому проповедовавшие девственное житие. Вместе с тем в годы начавшихся гонений «остальцы благочестия» полагали, что воцарилось антихристово время, и настали последние времена, следовательно, рассуждения о брачной жизни исключались; актуализировался вопрос духовного спасения, одним из путей которого признавался аскетизм и уход от семейной жизни.
Полемика по вопросу о существе брака продолжалась между представителями староверческих центров в течение всего XVIII столетия, которая всесторонне раскрыта в монографии А.И. Мальцева. Известными сторонниками «бракоборных» взглядов были федосеевцы, филипповцы и выговцы, отстаивавшие «истинное девство». О спорах по вопросу брака было известно и усть-цилёмским староверам, о чём свидетельствует найденное на Пижме в д. Загривочная «Соборное постановление выгорецких общежителей о новожёнах, 1777 г., января 12», переписанное в первой четверти XIX века. Пижемцы поддерживали тесные связи с выговцами, которые снабжали их литературой, в том числе и сочинениями их наставников; проповедь с Выга распространялась через пижемских наставников на всю Печору.
В 60-х годах XVIII века в среде московских староверов-поморцев стало всё больше утверждаться мнение о допустимости «новоженческих» браков, главным проповедником этого был Василий Емельянов (1729-1797) – первый настоятель Монинской общины. Несмотря на то, что с момента основания московская поморская община руководствовалась правилами, принятыми в Выговском общежительстве, и считала выговских отцов своими духовными руководителями и наставниками, московские поморцы, «значительную часть которых составляло купечество, для которого вопросы собственности и права её наследования имели существенное значение, считали необходимым решить проблему брака положительно». И только после продолжительных споров в конце XVIII века вопрос о допустимости бессвященнословного брака был решён положительно: «Уже в 1794 году московская Покровская община и Выговское общежительство находились накануне разрыва отношений. Но этого не произошло, так как вскоре позиция выговских наставников стала меняться. Немалую роль в этом, вероятно, играл тот бесспорный факт, что выговцы экономически зависели от москвичей. Тимофей Андреев, ранее написавший несколько “бракоборных” сочинений, признал “новожёнческий” брак допустимым и призывал собрать общий собор для установления способов его заключения. В 1795 году Архип Дементьев, желая примирить всех поморцев, объявил, что не считает Василия Емельянова еретиком, а “новожёнов” блудниками. После смерти Василия Емельянова 19 апреля 1797 года в конце того же года на Выг отправился московский наставник Гавриил Илларионович Скачков с целью окончательного примирения. Московская община снабдила его специальным письмом, где просила выговцев “уведомить нас о ваших к нам благосклонности и мирном и единомысленном разумении». Г.И. Скачков сумел добиться от выговцев положительного решения вопроса о браке. 3 января 1798 года он вернулся в Москву с мирным посланием, в котором выговские отцы изъявили свое согласие с московской общиной по данной проблеме». Установленное согласие на возможность заключения браков было закреплено Г.И. Скачковым, создавшим «Канон Господу Богу на обряд бракосовершения нерукоположенными мужами поморской Церкви», более известный под названием «Канон Всемилостивому Спасу». Сочинение было поддержано современниками и получило высокую оценку в литературе: «Творение сие отпечатано во внешнецензурной типографии и упоминается и в оглавлении по каталогу староверческих сочинений Павла Любопытного, но ни цензура, ни издатели, ни читающие сии издания до настоящего времени решительно никто не зазрил и не предъявил возражений против святословий канона. <…> Канон брачного молитвословия есть приумножение славы Божией, укрепление законного бракосочетания, сущего пристанища целомудрия, меч, отсекающий скудное бракоборство». Создание канона было одобрено как «дело поистине похвальное, нужное и полезное».
Дискуссии о возможности заключения браков продолжались во многих староверческих центрах и в XIX веке. По мнению настоятеля усть-цилёмского молитвенного дома А.Г. Носова, вернуться к брачной жизни христиан подтолкнули жизненные обстоятельства – рекрутство. Воин – невольник, и в случае его гибели погребение совершалось не по древлецерковному правилу, как это было принято у староверов, считавших иное погребение грехом, а для усопшего духовной погибелью (бросить камнем в могилу): «Суровая действительность жизни: холостых призывали в рекруты, а женатые оставались в семьях, но платили подать государю. Христианину было трудно противостоять в этих условиях и перед ними стояла дилемма: либо обзаводиться семьями, либо принять грех * идти в рекруты, а рекруты молились за царя и к тому же можно было погибнуть, а значит быть погребённым не по христиански, не по древлеправославному чину. Вопросы ставились непростые перед староверами».
Проблема семейно-брачных отношений поднималась и на Первом Всероссийском Соборе христиан-поморцев, приемлющих брак, проходившем в 1909 году в Москве, на котором с докладом «О существе брака» выступил Т.А. Худошин, разъяснивший суть бессвященнословного брака. На Соборе было принято решение об издании чина бракосочетания для руководства отцам духовным, а Духовной Комиссии поручалось доработать его для включения в Потребник; канон Г И. Скачкова признавался допустимым в чине бракосочетания, а его применение в обряде предоставлялось на «волю Общества, усмотрение отцов духовных и местному обычаю». Настоящим Каноном и ныне освещаются староверческие браки, в том числе и в усть-цилёмском молитвенном доме.
Брачный устав староверов-беспоповцев
«Устав брачный правовернаго староверчества», составленный в 1803 г. Павлом Ануфриевым Любопытным в Монинской моленной (Москва) и принятый многими старообрядческими общинами, явился образцом в создании вариантов бракособорных уложений локальных групп староверов-беспоповцев. Устав состоит из двух глав: 1. «Предварительные наблюдения законных браков»; 2. «Порядок законного брака». Первая глава представляет своего рода анкету, которую вступающие в брак должны «заполнить», чтобы получить благословение настоятеля на брак: 1. возраст брачующихся; 2. степень их физического и духовного родства; 3. социальное положение (состояли ли в браке, не нарушают ли иноческого обета и др.); 4. согласие родителей; 5. соблюдение единой конфессиональной принадлежности.
Во второй главе подробно описана структура свадьбы: сватовство, смотрины, рукобитие, девичник и собственно свадьба. В Уставе прописано обязательное участие настоятеля (духовника) в выборе брачных кандидатур и только после одобрения им пары засылаются сваты. Каждый этап должен сопровождаться молитвословиями. На рукобитии следовало соблюсти следующий порядок: все присутствующие кладут «начал» и старейший замолитствует: «Замолить святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий помилуй нас. Аминь»; все присутствующие поют стихи: «Владычице, прими молитву раб своих!», «Не остави нас в человеческое предстояние!», «Подаждь утешение своим рабом, Всенепорочная!»; после каждого стиха кладут земной поклон. Далее читаются: «Слава и ныне», «Господи помилуй» (дважды), «Господи благослови», отпуст «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, ради молитв пречистыя Ти Матере и святых славных и всехвальных Апостол (и святых, чьи имена носят врачующиеся) и всех святых. Помилуй и спаси нас яко благ и человеколюбец! Аминь», «Господи помилуй» (трижды). После совершения молитв начинается церемония рукобития / благословения. В завершении ритуала отец передавал дочь мужу со словами: «Сия наша дщерь, которую вручаем тебе по воле Творца нашего в вечно нерасторжимое супружество; и ты с ней живи в страсе Божии и в соблюдении святые его заповеди, один другого слушайте здравых рассуждений, во всех ваших предприятиях, ложе храните свято; и ты, чадо, чти мужа своего, яко главу тела твоего!». Жених, получив невесту, кланяется ему поясным поклоном, целует трижды невесту, ведёт за стол, где молодая подаёт ему стакан кваса, одаривает своего избранника, и они вновь трижды целуются. После этого невеста одаривает по старшинству родню жениха и присутствующих, которые в ответ желают: «Господин новобрачный! Я желаю и хочу видеть вас всегда в супружеской любви». В завершение все поют стихи и расходятся по домам.
Накануне свадьбы у невесты устраивается девичник, на который приезжают жених с дружкой и привозят для неё подарки-украшения. Здесь происходит «по росписи» получение приданого, после чего гости прощаются и возвращаются с приданым в дом жениха.
В день свадьбы происходит благословление молодых. В доме, перед отъездом в храм, жених кладёт «начало», благословляется образом (без хлеба-соли) и едет туда встречать невесту у входа, после чего молодые, взявшись за руки, идут за свещником с образом в руках, входят в храм и становятся в центре. Причетник берет образ и устанавливает его на аналое, с левой стороны возле крылоса*, а перед ним ставит подсвечник со свечой. Певчие в это время по крылосам поют антифоны: «На горы души воздвигаем» и «Десная ти рука» (Глас 5), «Боящийся Господа» и «Окрест трапезы» (Глас 7), «Воззвах к тебе, Господи» и «Се ныне что добро» (Глас 8). Далее начинается «Чин брачного молитвословия», о котором сообщается в «Уставе».
* Место перед иконостасом, где размещаются служители, благословленные на чтение и пение
В храме жених и невеста, осеняя себя крестным знамением, совершают три поясных поклона; рядом с женихом стоит дружка, с невестой – сваха. Все присутствующие кладут «начало», затем настоятель спрашивает сначала жениха, а затем невесту: «(Имярек), произвольно ли ты берёшь сию (имярек) в законную себе жену?» Ответ: «Произвольно». Вопрос: «В вечное ли и неразделимое сожитие с нею ты вступаешь?» Ответ: «В вечное и неразделимое». Вопрос: «Взаимное сие согласие почитаешь ли ты за истиную форму совершения тайны законного брака?» Ответ: «Почитаю». Далее настоятель цитирует Апостола Павла: «Всяко еже не от веры грех есть… Сердцем веровати в правду, усты исповедовать во спасение» и просит подтвердить их согласие с этим высказыванием целованием Креста. Предварительно брачующиеся совершают два поясных поклона, прикладываются к Кресту и кладут земной поклон. В это время певцы поют 127 псалом седьмым гласом: Блажени вси боящиеся Господа. После этого наставник замолитствует, чтец завершает Аминь и читает начало к канону: Царю небесный, Трисвятое, Отче наш. Настоятель произносит Исусову молитву, а чтец продолжает: аминь, Господи помилуй (12 раз), Слава и ныне, Приидите поклонимся с тремя поясными поклонами, Псалом 142 (Господи услышь молитву мою), Слава и ныне, Аллилуйя (3 раза), Господи помилуй (12 раз), Слава и ныне, Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне (Глас 1). Стих Исповедайтеся Господеви яко благ.., Господи Боже, спасителю наш… Псалом 50 (Помилуй мя Боже…) Поётся канон Всемилостивому Спасу, составленный Г.И. Скачковым.
Завершается «Устав» разделом «Брачные обеты для вступающих в супружество». Документ, вероятно, должен был послужить образцом проведения обряда, прежде всего, для горожан. В сельских местностях, где традиционные обряды были регулятором внутриобщинных (внутрисемейных) отношений и сохранялись в большей степени благодаря этому обстоятельству, имелись локальные варианты свадьбы, в которые привносились и элементы конфессиональности, в частности молитвословия, закреплявшие брак.
§ 2. Формы заключения брака
С середины XIX – до 60-х годов XX века самой распространённой формой брака была д о г о в о р н а я. Комплекс обрядовых действий во время брака и свадьбы условно можно разделить на четыре этапа: сватовство (сватанье), предсвадебные обряды, собственно свадьба, послесвадебные обряды (олабыши, пир). Договорному браку была свойственна публичность: участие в нём жителей деревни являлось их общинной обязанностью и служило своего рода санкционированием брака. Особенностью договорной свадьбы являлась вариативность ряда обрядовых действий, в большей степени обусловленная тем, что пришедшие на Печору и её притоки староверы были выходцами из разных регионов России, принесших свои традиции.
Зафиксированы у устьцилёмов и такие реликтовые формы брака, как к а л ы м и у м ы к а н и е. О калыме свидетельствовал Е. Перфецкий: «Калым за невесту на Севере в XIX в. у русских платили только в Усть-Цильме. Невест до сих пор п о к у п а ю т (разрядка моя – Т.Д.) по всем правилам торга». Опрошенные мною жители Усть-Цильмы рассказывали, что когда дочь была единственным ребенком в семье, а жених не желал идти в примаки, стороны жениха и невесты оговаривали выкуп за девушку (делать выкуп), от 120 рублей и свыше, и считали обряд завершенным. «Стоимость» невесты зависела от неё: «Помоложе – рублём подороже», – говорили родители, называя высокую цену выкупа за дочь.
Умыкание невесты – древняя традиция, в западной славянской культуре было известно до конца XVI века, у украинцев до XVII века. В староверческой среде практиковалось ещё в XX столетии. В Республике Коми эта форма брака бытовала у усть-цилёмских и удорских староверов. В усть-цилёмских селениях умыкание было распространённой формой брака, в котором традиционно участвовали сельские жители – помощники жениха. Приведу примеры типичных рассказов о таком браке:
1. «Дедко рассказывал, привёз бабку из Сергеево-Щельи. Её отец держал пароходство. Дедко Кирилл и заприметил девку, она работяшша была, мешки даже на спине носила, хотя и маленького ростика была. А в деревню надо было работяшшу жёнку. Родители деда были не так богаты, а те богаты и дочь не выдавали за его замуж. А девку высмотрели, когда на ярмарку приезжали в Усть-Цильму. В очередной раз приехали по невесту, не отдали они и украли её. Заранее всё было продумано: на каждой станции меняли лошадей, они уже ждали запрежёны. В Усть-Цильмы сели на свежу лошадь, потом в Боровской, Загривочной. И доехали до Скитской. А отец девки на одной лошади поехал, дэк догнать не могли. Раньше ведь как: ночь невеста переночевала и уже считали брак законным, а бывало догонят “воров”, так выколотят – до полусмерти. И ничё им не предъявишь, таки правила были. Но, если свадебно состоялось, родители невесты прав на дочь уже не имели. Деда звали Кирилл Емельянович Чупров, а бабку Марина Ивановна. Потом дедко ещё рассказывал, что перед женитьбой завечался и перед сном загадал на невесту и ему приснилась шустрая небольшая девушка с охапкой сена на поветях. А потом когда житьём зажили он увидел жену на поветях и сказал: “Ты мне такой и приснилась”. Раньше гаданья сбывались». Рассказ о женитьбе родителей дополнен дочерью Кирилла Емельяновича – Матрёной Кирилловной Чуркиной: «Мамку поехали сватать, взяли с собой старушку, котора знала чё ле. Она прошла мимо мамки, по спины провела рукой, та и запоезжала. А так может быть и не захотела бы ехать в глушь. Потом родители мамкины простили молодых, хотя дедку долго же нелюбо было, что дочерь украли».
2. «У меня вот, у мужа, например, крёстную тётушку, отца сестру вот увели. Масленица была, наверное, что ли, зимой, или Рождество, или чего-то… в общем из хоровода увели и всё. Заводили в дом жениха, заводили просто обманом в дом жениха, как-то там, что, мол, за чем-то надо зайти, там… Обязательно кого-нибудь подговорят, чтобы они смогли уговорить её и завести в этот дом,.. заводили в дом. Одевали её молодкой, сажали за стол и всё. Так же вот и отцу её сказали: “Иван Иванович, у тебя там Ульянку-то уже пропивают, мол”. Отец запряг жеребца, и в верхний конец Усть-Цильмы… Приехал, распряг там этого жеребца, вынул оглоблю из саней и разобрал им все окна по низу, все разломал. Вот так. Отец жениха кричит, говорит:. “Иванушка, Иван, Иван, все хорошо сватушко, все хорошо, все хорошо”. Через месяц делали пир в доме невесты уже, если уже все, уговоренно, нормально. Это вот, так вот уводили, воровали девок вот так».
3. «Мне дедко сказывал, что у Степана был на свадьбы и там увидел девку, и узнал ей: вспомнил, что видел ей «в стакане», когда кудесил. И сосватал ей. Всё сбывалось гаданье. Тогда ведь чудилось, виделось. Ну и сосватал ей, а родители не отдали. А на свадьбы он уж с девкой-то разговаривал, наверно, понравились друг дружки. И дедко девку-ту украл. Дэк ейны родники догнали их и девку наперво спрашивают: “Сама ушла ле украли?” – “Сама, по своей воли”. И тогды отпустили. А так бы бат наколотили парня и дочерь назад вернули Девка парня-mo выручила».
Кража невест практиковалась и уже в процессе самой свадьбы. В таких ситуациях обычно крал девушку возлюбленный, если его избранницу выдавали замуж за другого (насильно). В этом случае участвовал жених и дружки, которые, как сообщают информанты, брали невесту штурмом, выбирая удобный момент: «В 1955 году было дело, в Загривочной. Идёт свадьба – в самом разгаре. До этого за невестой ухаживал парень из Боровской, несколько раз звал её замуж, она отказывала, молоденькая была, не торопилась. А тут из Черногорской жених посватался, и сваты, наверное, были настойчивые и свадьба. Свадьба в Загривочной так, наверное, в примаки пришёл. В общем, идёт свадьба, подъезжают на лошадях боровяне, с дружками, крадут невесту, напором. В сани её и везут в Боровскую, а там уже стол накрыт, гости сидят за столом. За ними даже не погнались. Несостоявшийся муж так и уехал в Черногорскую. А девушка ушла замуж в Боровскую». Как свидетельствуют факты, захват, насильственное завоевание невесты были нередки в усть-цилёмской традиции, сохранявшиеся ещё в первой половине XX века. В случае успешного похищения статус жениха (молодого мужа) заметно возрастал, о нём односельчане говорили как о герое.
Бывало, о запланированной краже невесты становилось известно заранее и дом, где праздновалась свадьба, приходилось охранять. Иногда запирали дом изнутри, а в местах возможных проникновений в него выставляли охрану, как об этом сообщается в следующем рассказе: «Это случилось с моей мамой. Родители её умерли рано, остались дети. Мама была самой старшей, остальные мал-мала меньше. И надо было мужчину в семью, сестёр, братьев надо было подымать на ноги. А молодой человек, который ухаживал за ней, не хотел идти в примаки, хотел увезти её в свой родительский дом. Прийти в примаки считалось позором, и никак не соглашался. Поэтому мама приняла решение выйти не по любви, но за того, кто был согласен прийти в дом. Свадьба назначена, подготовка идёт большая, собираются гости, молодые садятся за стол. Но как раз в этот момент маминому брату кто-то сказал, что готовится кража невесты, не сводите с неё глаз. И брат организовал охрану. Маму не выпускали из дома, мужчины охраняли дом. Михаил с дружками приехал, хотел натиском захватить маму, но не удалось, невесту отстояли. И так всё закончилось для зачинщиков неудачей. Только благодаря тому, что брату стало известно, и мужчины подготовились к натиску». В славянской культуре роль брата как представителя и защитника интересов рода невесты общеизвестна, его участие на всех этапах свадебного обряда считалось обязательным. Неслучайно именно брат назначался одним из дружек, выполняющих функции распорядителей свадьбы, регулирующих взаимоотношения между участниками свадьбы и сельским миром; охранял её непосредственно на свадьбе. В случае кражи невесты старшие братья устремлялись в погоню за сестрой, по возможности возвращали её или, согласно обрядовому правилу, наказывали похитителей.
Об умыкании с ведома родителей и браке уходом, практиковавшимися еще в 1920-х годах, писала Н. П. Колпакова: «Свадьбы здесь бывают чаще всего «уходом” или «умыканием”: парень приезжает, подхватывает свою невесту и увозит её на коне, так что их не догнать, на другой день являются с повинной к родителям, которые после соответственных поучений прощают и принимают их». По итогам своего следующего приезда в Усть-Цилёмский район в 1955 году исследовательница пишет: «В быту остался обычай умыкать невест, но вместо прежнего коня, на котором увозили девушку, теперь её умыкают в грузовике-полуторатонке». Весьма прагматично объясняют традицию умыкания пижемские староверы, связывавшуюся с конфессиональными особенностями – сохранением репутации своих родителей: «Иногда, если дочь хотела выйти замуж за мирского, то похищение происходило с ведома родителей – перед людьми они выглядели невиновными, и никто не стал бы их осуждать, что добровольно выдали дочь не за своего старообрядца». Иной раз молодые уезжали и селились на необжитых местах, образуя новую деревню, уже получив тайное благословение родителей. Обычай поддерживался и насильственным обращением старообрядцев в церковное православие, постоянно угрожавшим им в XIX — XX веке.
К форме брака умыканием прибегали и в сложных жизненных ситуациях, главным образом из-за недостатка средств на организацию свадьбы или, когда в семье рождались девочки, и родители препятствовали их замужеству, рассматривали дочерей исключительно как рабочую силу: «Деревню Филиппово назвали по имени засельшыка. Филипп Филипповску заселил*, а еговой брат Ортя – Ортинскую. У Филиппа было четыре дочери и бездетной сын, и ни онну не хотел замуж выдать, шшобы робили на его.
* Историческая память донесла практически достоверно информацию о семье основателя д. Филипповской. Для сравнения привожу описание В.Н. Латкина, посетившего Печору в 1840 и 1843 гг. и составившего описание о Филиппе и его семье: «Деревня Филиппова названа по имени перваго поселенца, переехавшего сюда назад тому около 60 лет. Старик недавно умер. По словам его семьи, он был большой чудак: вырастил пять дочерей и ни одной не хотел выдать замуж, употребляя их в работу вместо работников. Они пахали землю, рубили лес и дрова, возили сено, ловили рыбу и делали всё, что было нужно при первом обзаведении хозяйством в тёмном лесу. Старик неусыпно смотрел за ними, но одна ускользнула от надзора и обвенчалась с знакомым парнем. Филипп гнался за ней, но не настиг: сёстры были в заговоре с беглецами, дали старику худую лошадь, запрягали её медленно, и он кое-как дотащился до села. Долго упрямый старик не хотел видеть дочь, но прошёл год или два и он простил зятя и позвал построить дом в его поселении. Теперь эти две семьи благоденствуют, у них довольно хлеба, много скота, есть в тундре олени, дома построены хорошие, в избах чистота и порядок — недостаёт одного: у сына Филиппова нет детей; у зятя одна дочь – наследница всего имения. Остальные дочери старика Филиппа ещё живы, но завяли в девстве, уже старухи; одной более 60 лет. Вспоминая молодые годы, они скорбят, что не видали до старости красных дней, не бывали ни на посиделках, ни на игрищах, а всю жизнь только работали». См.: Записки Императорского русского Географического общества: Дневник Василия Николаевича Латкина на Печору в 1840 и 1843 годах. Кн. XVII. Ч 2. СПб., 1853. С. 82-83.
Девки могутны были, за мужика робить могли. Три старши-то и договорились: надо младшу Марьюшку хошь замуж выдать. Тогды дорога в Архангельско была тут, по Цильмы, и люди ездили, и договорились с оным, шшобы замуж Марьюшку взял. Подготовили дело и отправили Марьюшку в Усть-Цильму замуж. Уходом ушла. Отец-от спохватилсэ: Марьюшки нету и бросилсэ догонеть. А сестры-ти запрегли ему хрому кобылу, он и не догнал их. Поехал на другой день, а их уш их в церкви нашей благословили. После благословленья назад дочерь уш не возьмёшь. Через год он созвал их к Филипповым, простил. Они и переехали в деревню к отцю на житьё. Своих детей у них тоже не было, они взяли девочку от Карпушовых и вырастили ей».
Брак «уходом» запрещался церковью, как совершавшийся без ведома родителей, без благословения, об этом говорится в Правиле Василия Великого: «Без воли отца своего последовавши мужеви, блудница именуется. Аще же и родители ея смирятся, и бывшее исцеление имети мнится, обаче три лета повинна есть». Согласно церковным правилам, только после 25 лет девушка могла самостоятельно принимать решение о замужестве, или когда оставалась сиротой, но по моим полевым материалам, возрастные невесты советовались с родителями и чаще их мнение на брак было определяющим.
В литературе брак «уходом» рассматривается как протестный, когда родители жениха или невесты не одобряли выбор молодёжи и пытались предотвратить его. У русских Заонежья свадьба «уходом» или «молча» также была распространённым явлением, которую В.П. Кузнецова и К.К. Логинов рассматривают как «форму протеста против всевластия родителей при выборе брачных партнёров своим детям». В организации такой формы брака участвовали сельские жители, чаще женщины, стремившиеся поддержать молодёжь, если ситуация того заслуживала. Приведу пример, рассказанный Анастасией Михайловной Бабиковой: «Мы с дедком женились, мои родители не норовили нашей свадьбы, потому что Арсюта был сыном примака, хошь и не бедного, мои родители жили справно – в дорогу ездили. И тётка Парасья прознала про наше дело, договорились, что замуж уходом я от ей пойду, у Арсюты отец не против был свадьбы, и вечером тётка меня наредила – всё честь по чести, мы с дедком пришли к еговым родителям, пали в ноги, нас и благословили, тут свадебно маленько справили. А потом через день пошли моим родителям каяцце. Простили, хотя татке беда не ланно было. А потом Арсюта был самые любимым зятем. Так по любви мы и сошлись, а послушала бы я своих родителей, не знаю каку бы жись прожила, бат какой-ле грубиян бы досталсэ, а таке с дедком беда добро прожили. Пятьдесят лет прожили. Доброй был. Даже когда на войну пошёл, то я задумала: буди убьют, за другого замуж не пойду – это как завет положила, и вернулся». По понятным причинам родители невесты на таких свадьбах не участвовали, а если им становилось известно о замысле дочери, то всемерно стремились помешать этому: «На шестнадцатом году замуж уходом ушла. Родители никак не хотели меня отпускать, а я сговорилась с парнем и ушла к нему. Гуляньё идёт, гости за столом сидят, а родители отправили родников меня как перехватить, да назад вернуть. Женихова сторона перед има двери заложили и не запустили. Так и свадебничали, а родители не были, шшытали не за ровню замуш пошла, не пара». Бывало, что брак уходом предотвращали братья невесты, особенно в тех случаях, когда девушка опережала с замужеством старших сестер: «Моя мамка хотела уходом уйти, дэк братья узнали и подкараулили и дверь застёжили, с поветей упёрли. Она была не старша – шесть сестёр было. Не разрешали младшим раньше старших уходить, чтобы не засиделись, могли засидеться. Уежских девок замуж брали, бьвало в одну деревню уходили. Три сестры были, дэк ушли в одну деревню и из одного колочча воду носили. Девки добры, работяшши были, их славили и брали замуж».
Воровали невест и в тех случаях, когда парни проживали в малодворных деревнях, удаленных от волостного центра, и девушки/родители отказывали в сватовстве по этой причине. Как и повсеместно, по истечении некоторого времени молодые являлись с повинной к родителям невесты и получали прощение и благословение. Следуя на покаяние, молодожёны приглашали для участия в этом действе уважаемых людей из их деревни, иногда из родственников, которые были их «ходатаями», заступниками, они призывали родителей простить и принять их выбор. Иные рассказы наполнены иронией о происходившем: «Мы с мужем приехали к родителям прощенье просить, взяли с собой дядю с тёткой. Мати люта была. Отец скорее простил, а мати никак слушать не хотела даже. Мы во двори пали ей в ноги, потом в дому, в онной избы, в другой… Дедя и говорит: прошшай скорее, докуль они тут подверьх жопой ползать будут. Нынь смешно, а тогды думали, что мати не простит. Потом простила и благословила». Все рассказанные истории свидетельствуют, что спустя какое-то время родители прощали молодых и благословляли на совместную жизнь, но такой зять чаще становился «нелюбимым», о нём говорили: зять-то как звать, этим выражали ему непризнание. Известный риск сулил такой брак и для девушки, которая лишалась приданого и в новой семье ей приходилось утверждаться самостоятельно, тогда как невеста с богатым приданым ценилась уже и за это. Беглянка обычно уходила лишь с тем, во что была одета.
Нередки случаи, когда девушку пытались просватать и оставить в новой семье обманом, такие свадьбы в волостном центре – Усть-Цильме – были также нередки. Но порой находчивость девицы позволяла ей сохранить свою свободу: «У отца была двоюродна сестра, тётушка моя и она здумала меня за одного парня выдать. И у Домашнего ручья преш всё собирались молодёжь, машины ведь тогды не ездили и сё тут собирались, пели да плесали, весельё тут было. И весной в воскресенье все нарядны, тогда в сарафанах ведь ходили. Я тоже в старинной одежжы. И пришла тётушка с мужем и обманом меня зовёт, шшо пойдём этам в деревню сходим, там у нас дома записку с Бору привезли, шшо бабушка у тебя заболела, мы потом тебя обратно приведём, прроодим. Ну, панно тако дело, пошла. Подходим к раймагу, а зади так гармошка заиграла, я обернулась, зади идут два парня. Пришли и стали меня сватать, тётушка одномя говорит Ульяна всё знат,– это как моя мати. Я говорю нет, везите меня домой, мамку надо спроситце. До утра они меня вымыражили, уговаривали, плат молодкой мне уж завязали и всё же я настояла: тётка, жених, егов друг и я поехали к нам домой. Приехали мы домой. Мамка сидит сетку вяжет, а друг говорит жениху: Иван Зотеевич, падай тёшшы в ноги прощенье проси. Я как зашла в дом плат с головы сбросила. Мамка спрашиват: спать-то бат не валили, не обесчестили. Я говорю нет, нет, нет. Ну раз спать не валили, дэк уйди запретайсе. Жених-от по дому ходил меня искал, в сундуках и всё меня искал. Он не начел, что я из дому другим ходом вышла, а я с девками сижу в бани. Все из дому ушли на работу, после я вышла, пришла домой, а жених один сидит. Ну уж больше силой меня не поташшыл. Так я и убежала от жениха. Я потом боелась, чтобы не отомстил. Демёшичи они форсуны были, боелась шшобы не поймал да чё ле не сделал». Если девушка оставалась в доме такого жениха дольше суток, то брак считался состоявшимся и родители невесты уже не имели к похитителям никаких претензий. Её возвращение в отеческий дом не предвещало ей благоденствия, обычно такую девушку в дальнейшем никто не сватал, в лучшем случае она становилась женой многодетного вдовца. Поэтому такую ситуацию усть-цилёмки принимали смиренно, иные рассказчицы добавляли, что по сватовству тоже выдавали порой за незнакомого жениха, не спрашивая мнения девушки на брак.
Как уже говорилось в первой главе, имела место и «п р и м а ч н а я» форма брака, когда муж приходил в принятые в семью жены. Она заключалась в случае, когда дочь была единственным ребёнком в семье, либо если в доме жениха уже были женатые братья; в этом случае младшие братья не имели возможности привести своих жен в отцовский дом. Последнее обстоятельство отразилось в фольклоре:
Милый сватайся, не сватайся
Меня не отдадут.
У тебя четыре брата
В доме пая не дадут.
Бывало, в богатую семью некоторые мужчины желали попасть, невзирая на оскорбительное отношение к примакам со стороны односельчан. Мной записан рассказ, свидетельствующий о непростой жизненной ситуации, когда обиженные родственники отвергнутого жениха использовали чародейный приём – бросили остудну между невестой и её избранником: «У прапрадедка Тери была одна дочь Акулина. Он был богатым, торговал товарами у усольцев, те привозили и оставляли деду, он зимой торговал. И к ему в семью хотели Федьковы попась – в богато житьё. А бабка Алёна не норовила их, и в примаки привезли Акулины мужа из Ильинки – Тимофея Ивановича. Дак Федьковы бросили остудну молодым и сделали так, что бабка Алёна тоже невзлюбила своего зятя. И так и жили: вместе не могли, и врозь было худо. Поживут вместе како-ле время, потом Тима уедет в свою деревню. Бабка Алёна за ним поедет, привезёт, потом опять уедет. Так и жили, маялись всю жизнь. А Федьковы жили по соседству и всегда посмеивались над Тимофеем. Дед Тима был охотник, а на грядах вода была и посмеивались: Тимка, тебе бытит – это везёт, на воду утки тут сядут, Тимка, уток стреляй. Посмеивались, примак был. А он рабочий был, всю жись охотился, людей лечил – вывихи вправлял, ни с кого за то денег не брал». Такие случаи не единичны, жизнь людей была наполнена драматизмом, случались и трагические исходы, бывало, что семья распадалась.
§ 3. Брачный круг и возраст брачующихся
При заключении брака руководствовались правилами Кормчей и общинными, согласно которым жених и невеста должны быть одной веры, исключалось плотское и духовное родство, требовалось их добровольное согласие на брак и благословление родителей. В XIX столетии рост численности населения Усть-Цилёмской волости был динамичным как за счёт рождаемости, так и притока переселенцев, в основном с Мезени; незначительную часть составляли представители северо-западных русских областей. За период с 1829 по 1855 год число жителей Усть-Цилёмской слободы выросло примерно в 2,2 раза и составило 3643 человека. Осваивая новые территории, переселенцы оседали как в небольших по численности поселениях, так и образовывали новые, расположенные на значительном удалении друг от друга, что для староверов, соблюдавших эндогамию, создавало определённые трудности в установлении брачных связей. Данные метрических книг середины XIX – начала XX века свидетельствуют, что в основном брачные связи не выходили за границы Усть-Цилёмской волости. Серьёзным препятствием к браку у устьцилёмов являлись конфессиональные и этнические различия, при этом первый фактор был определяющим.
Согласно географическому расположению усть-цилёмских населённых пунктов по рекам Печоре, Нерице, Пижме и Цильме выбор брачных партнеров в основном осуществлялся по территориальному принципу. По этому поводу говорили: «Лучше всех та жёнка, что сосватана в своей деревне», «Добрый жених далеко свататься не ездит, а хороша невеста далеко замуж не ходит». Определение брачных пар было делом не только вступающих в брак людей. По «общинному правилу» родители жениха и невесты прислушивались к мнению односельчан и, бывало, пересматривали выбор парня и девушки. В случае его отклонения, например, не достигших брачного возраста людей, сообщали иносказательно: «Невеста без места, жених без штанов». Несмотря на то, что в браке соединялись два рода, равные по достатку, согласно присловью «Девок выбирали родами, а коней стадами», главным образом это касалось знатных богатых династий. Старейшины общины заботились и о представителях из семей со скудным достатком и не всегда были склонны соединять в пару жениха и невесту из бедных семей. Бывало, небогатую девушку выдавали замуж за вдовца с детьми среднего и даже полного достатка, а работящего небогатого парня сводили с девушкой из среднезажиточного рода/семьи, где не было сыновей и нередко его брали в примаки. Всем миром собирали наряд для невесты, если в том была необходимость, о чём свидетельствует присловье «Жениха женили сусеками, невесту выдавали соседями».
Поскольку всё-таки большинство деревень были малочисленными и жители состояли в близком родстве, то старались выбирать невест из других селений. Самым крупным очагом был усть-цилёмский, охватывавший населённые пункты по р. Печоре от деревни Гарево до Высокой горы, общей протяженностью около 20 км (рис. 1: 1). Селения по Печоре в нижнем её течении объединялись в следующие очаги: Хабариха, Бугаево, Уег, Мыза, внутри которых предпочтительно выбирали невест (рис. 1: 2). Основанием тому было общественное мнение о жителях конкретной деревни. Например, жители д. Мыза старались сватать невест из Усть-Цильмы, расположенной в 60 км, а не из Уега, находившегося в восьми километрах, т.к. руководствовались практическими соображениями: мызинсхие мужчины, занимавшиеся извозом, могли остановиться на постой в семье свойственников. Самые удалённые от центра очаги: Окунёво, Мещанское, Чурвино, Росвино. Климовка, Крестовка, Медвежка, Комарово, Шапкино (рис. 1: 3); Ёрмица, Лёждуг, Харьяга, Великовисочное (селение относится к Ненецкому национальному округу, рис. 1: 4) – в каждом из этих округов устанавливались брачные связи.
Выделение в отдельный брачный круг жителей Пижмы (до 1930-х годов) связывалось с их ревностным отношением к вере и стремлением сохранить её в чистоте (рис. 1: 5). Пижемцы жили обособленно от других селений, но и они, бывало, выбирали невест из печорских и цилёмских деревень (д. Савино). Крестьяне, выезжая весной в Усть-Цильму на ярмарку, по дороге приглядывали невест как в пижемских селениях, мимо которых проплывали на лодках и останавливались в них на постой, так и по Печоре, а зимой засылали сватов.
Жители по р. Цильма заключали браки с крестьянами, проживающими в цилёмских деревнях и с. Усть- Цильма (рис. 1: 6). Устьцилёмы охотно выдавали девушек замуж на Цильму в расчёте на то, что в семье сватов можно будет останавливаться на постой, следуя на ярмарки в Архангельск, Пинегу и другие места. Через цилёмские деревни проходил тракт, соединявший Печору с северо-западом России. К тому же цилёмцы слыли крепкими хозяйственниками, и установление родственных отношений с ними считалось почётным. До середины XX века цилёмские крестьяне с предубеждением относились к пижемцам в силу их приверженности к пению: «На пижемках не женились. Ране все посмеивались: ну этот пижемку взял, дэк житье не разживут. Все говорили, – пижемцы только молиться да песни петь. Потом в совецкие годы Ульян Иванович с Цильмы приехал к нам на Пижму совхозом руководить, и он сказал своим цилёмцам, что пижемцы работяшшы. После того стали пижемцы с цилёмцами дружицце, это уж в 1970-е годы стало. Даже у цилёмцей переняли бабы кабата, ране здесь кабат не носили. А до него о пижемцах говорили как о ленивых». Субъективность такого рассуждения, вероятно, основывалась на закрытости пижемцев. О предпочтении браков, создаваемых внутри своих деревень, свидетельствует такое присловье:
Не вздыхай тяжко,
Не отдали далеко.
Хоть за лыско да близко.
Хоть за посошок да на свой бережок.
В целом можно охарактеризовать, что к началу XX века многие деревни находились в единой брачно-праздничной территории, и поддержание родства (например, гощения на выезде) также способствовало установлению новых брачных связей. По воспоминаниям М.И. Поздеевой, уроженки д. Уег, её тётки вышли замуж в одну деревню, где ходили за водой к одному колодцу, т.е. жили поблизости.
Особая ситуация складывалась в деревнях по р. Нерица, расположенных в приграничной зоне к коми-ижемским селениям. В отличие от замкнувшихся от инославного мира пижемских староверов, мезенские переселенцы, обосновавшиеся в верховьях р. Нерицы, во избежание инцеста строили конструктивные отношения с пригранично проживавшими коми-ижемцами (рис. 1: 7). Немаловажным фактором являлись представления о коми-ижемцах как сметливых хозяйственниках, зажиточных людях. Из ижемских деревень привозили невест, но непременным условием было принятие ими крещения по древлеапостольскому правилу и усвоения русского языка, чем обеспечивали конфессиональную и этническую устойчивость в крае. По сообщениям жителей деревень Ильинки и Черногорской, их прадеды осознанно выбирали невест своим сыновьям из ижемских селений:
1. «У нас в Черногорской много ижемок переехало, замуж оттуда брали, потому что старики род держали, смотрели, чтобы родственники между собой не женились. До четвёртого колена надо было отслеживать, а то и дальше Их потом перекрещивали, они по-русски разговаривали, а между собой ижемки по коми тоже говорили, но дети уже по-русски».
2. «В Замежной ижемок замуж не брали, а в Черногорской ижемок было много. Там большинство привозили ижемок. Дэк сказывали их даже зимой в ердане крестили, чтобы чиста была. Вот как старики веру крепко держали».
3. «В Ильинку старики с Мезени пришли и даже обрадовались, что с Ижмы можно девок замуж брата» говорили кровь обновляли – другой народ. А устьцилёмок не очень звали замуж, считали, что они уже не той нравственности – они более свободными во взглядах были. Ижемок у нас устьянками называют, как с устья Ижмы потому что. А потом и всех коми женщин на Нерице стали так называть: устьянка – значит коми. Все староверками стали, порусски разговаривают. Моя мама коми, а я уже коми язьк не знаю».
4. «В совецко время на Пижмы появились ижемки, стали их замуж брать. Иногод кто ле скажет грубо: комячка, а друга баба скажет – гледи как сноравливат, ловка к житью. Иноверов обращают в нашу веру, детей крестят».
Коми-ижемцы переселялись на р. Нерицу целыми семьями, например, известно, что фамилия Бабиковых пошла из Ижмы, а уже в XIX веке она не упоминается в ижемских селениях, но прочно укореняется в усть-цилёмских. Уход же устьцилёмок замуж на Ижму был крайне редким явлением. Породнившиеся семьи поддерживали родственные отношения, ездили друг к другу в гости. Вероятно, установление родственных связей русских с коми-ижемцами способствовало распространение староверия в некоторых приграничных ижемских селениях.
О.Н. Воздвиженская, обследовавшая усть-цилёмские селения в середине XX века сообщает: «В Нерице и Гарево немало жён, взятых с Ижмы, которые сохраняли свой язык и даже передавали его детям. Многие мужчины хорошо говорили на коми языке или же понимали, так как были тесно связаны с Ижмой и ижемскими оленеводами, которые выпасали их оленей (в деревне до революции насчитывалось до 2 тыс. оленей). Но население называет себя русским».
Браки между устьцилёмами и ненцами заключались значительно реже, причиной тому была разница в хозяйственной деятельности и образе жизни. К тому же обосновавшихся в пределах устъ-цилёмских территорий обедневших ненцев староверы не признавали за сметливых хозяйственников и запрещали смешанные браки даже в крайних случаях жизни; ненцев предпочитали брать в работники, поскольку они были неприхотливы в требованиях и не спрашивали высокой платы за работу. «Самоеды иногда женятся на русских, но русские на самоедах – никогда. Браки между самоедами и зырянами весьма часты». В книге В.Н. Латкина приведены данные о количественном составе самоедов, проживавших в Усть-Цилёмской волости на 1841 год: 161 мужчина и 145 женщин. С ненецким этно-компонентом связывается образование деревень Нонбург и Мыла по р. Цильме, на это указывают данные генеалогии и прозвищные названия жителей этих деревень. Ненцы, осевшие в пределах усть-цилёмских селений, овладевали русским языком, принимали оседлый образ жизни, перенимали «сарафанный комплекс» севернорусской одежды.
Вопрос о конфессионально-смешанных браках рассматривался на Первом Всероссийском Соборе (1909 год), где было решено об их запрете. В случае, если брак заключался в «Церкви Христовой без присоединения «еретической половины» к древлеправославию, то он признавался незаконным и подлежал расторжению. В случае принятия инославным крещения по древлеапостольскому правилу, в том числе и после установления брака, супружество признавалось законным. Оговаривался и такой вариант: смешанные браки, совершённые вне Церкви – по родительскому благословлению, – признавались терпимыми и не расторгались, староверы не подлежали отлучению от церкви и соборного общения, их принимали на покаяние. Гибкое отношение к вступающим в брак, безусловно, формировалось в силу жизненных обстоятельств, и определялось «по нужде ввиду тягостного ныняшнего времени из любви к детям, уступая их настойчивым просьбам». Такое решение было направлено, скорее всего, христианам, проживающим в городах. До 1970-х годов усть-цилёмские староверы соблюдали «строгость закона» и в обязательном порядке обращали инославного в древлеправославие; ныне формируются пары в конфессиональном отношении неоднородные.
Переселение мезенцев на Печору было связано с двумя факторами: в период религиозных гонений староверы переселялись из северо-западных местностей и селились семьями; их брали в работники. Как свидетельствуют информанты, мезенцы жили очень бедно, и усть-цилёмские крестьяне, следовавшие через мезенские деревни, подмечали крепких мужчин и женщин и привозили их в работники, о чём, например, говорится в следующем рассказе: «Устьцилёма богаты были и в работу нанимали людей: на сенокосе робили, бабы пряли да вязали. В Архангельцко, Вашку поедут торговать, с Мезени работниц привозили. Дедко привёз работницу, жила тут у них. Сын хотел жениться на работницы, бабушка не разрешила, сказала: чё не найдётся тебе усть-цилёмской девки, хошь взять без роду, без племени. Не будет никакого у ней тут рода. Как было не было, девка забеременела, родила. Потом войны были, он погиб, а еговой брат женилсэ на устьцилёмки и парня взяли ростить. А мезенка потом у других в Сергево-Щельи жила в работы. Тогды нездешны работницы детей отдавали отцям, оставляли в семьи. Раз мати своего угла не имет, ребёнка-mo надо кормить, ростить, а она сама в работы. Чужи люди не будут ейного чурака ростить. Работницы в основном робили за еду и одежду, кормили да одевали-обували, едва ли кому платили. На Мезени народ бедно жил, оттуль сюды в работу приходили. Некоторы и потом тоже за работников замуж выходили. Нынь ейны потомки живут. Я знаю двух мезенских работниц, они так и остались здесь жить. По Цильмы есь живут мезенци от работниц». В выборе брачного партнёра немаловажное значение придавалось крепости рода, его зажиточности, поскольку всегда ставился расчёт на получение помощи от представителей новой родни. Считалось престижным, когда в браке «сводили» роды, особенно, когда роднились с зажиточными.
Наряду с сохранением религиозной «чистоты» староверы утверждали и «чистоту» рода. Запрещалось вступать в брак с родственниками ранее шестого поколения. Но в некоторых пижемских и цилёмских деревнях такие семьи все-таки возникали, начиная от четвёртого поколения, повсеместно считавшиеся допустимыми. Словоохотливые устьцилёма осуждали земляков и оскорбительно называли нарушавших запрет: сестрогрёбы; поросины килы (пенис хряка – Т.Д.), т.е. скоты, дикие. Ругательства, скорее, являлись напоминанием о соблюдении правила в выборе брачных пар, а не констатацией реальных фактов.
Церковным правилом запрещалось вступать в брак детям породнённых семей – сватов, т.е. братья из одной семьи не имели права жениться на сёстрах из семей своих сватов: «Был случай на Цильме, когда девку Парасью Петровну выдали замуж, а уже сватовьями были и дедко не дал жить молодым. Дедко сказал, что грех. Парасья отошла назад, старики прешь правило крепко держали. Потом она вышла замуж за парня на восемь лет моложе ей был». В настоящее время этот запрет забыт и такие браки заключаются.
В вопросе заключения брака определяющими были церковные правила, изложенные в Кормчей книге, поучениях святых отцов и «правила отеческие», закрепленные в устной традиции. Основополагающим был Градский закон (римское право), известный на Руси по случаю включения его в правила Кормчей. Закон раскрывает правила христианского обручения, распределения имущества и другие вопросы. Даётся определение брака: «Брак есть мужеви и жене сочетание и бытие во всей жизни, божественныя же, и человеческия правды общение». Василий Великий определяет брак как чистоту и честь, предотвращающий блуд: «Блуд ни брак есть, ни браку начало, но грех и преступление закона Божия».
В прошлом понятие «блуд» отражало различные житейские ситуации: несвоевременное выполнение работ (в праздник), женитьбу или замужество с нарушением церковных и отеческих правил. К блудницам причисляли девушек, вышедших замуж без родительского благословления, в прошлом подвергавшихся отлучению: «Без воли отца своего последовавшее мужеви, блудница именуется. Аще же и родители ея смирятся, три лета повинна есть»; женщин «легкого» поведения. В народном понимании такие женщины обрекали собственных детей на неудачную судьбу. Грех блуда следовало искупить постом и молитвой. Однако, несмотря на строгость церковных и общинных правил, в деревнях случались такие нарушения. Хотя мнение о девушках, утративших девственность до замужества, было невысоким, и чаще всего они имели меньше шансов стать жёнами, в каждой деревне имелась сваха, которая на добровольных началах и при всеобщей поддержке подыскивала женихов и таким девицам. Чаще всего мужьями их становились немолодые вдовцы с детьми.
У староверов сохранялись и древние церковные границы брачного возраста, закрепленные в Главах Градского закона Кормчей книги: ранний возраст определялся 14 годами для юношей и 12 годами для девушек – «подобает же убо юношам в наусии бытии; девицам же приятным браку». По рассказам информантов, бывало, что родители в пару соединяли ещё совсем детей: «Бабка Маланья и дедко Паша поженились малыми: дедку было 16 лет, а бабке – 13. Как-то баловались, баловались и дылничу со сметаной опружили. Их мати обоих настигала ремнём – вот тебе и муж да жена». «Дедя Фома дедину Фомиху – Федосью Фёдоровну в 14 лет замуж взял. Она ишшэ в куклы играла. Новой раз ждёт его домой сидит играт и заснёт. Он придёт, перенесёт ей на койку. Молода была». Случались и такие варианты, когда жених «растил» невесту до положенного брачного возраста, оберегая её и ограждая от других женихов: «Цедя Лёва рассказывал, сам ростил тёщ Анну. Она молода была, заприметил ей и решил в жёны взять. Никому не давал за ей ухаживать, парней отстранял, растил, а потом женилсэ». О такой девушке говорили своерощена невеста. Основанием тому были также церковные правила, допускавшие обручение девочек в возрасте не менее семи лет с согласия её родителей. Такие примеры не единичны и были вполне естественны в малодворных деревнях, где выбор девушек был ограниченным.
Между тем реальный брачный возраст был значительно растяжимее: девушки выходили замуж между 15-25, а юноши – 17-30 годами. Для девушки пик брачного возраста – сама пора – приходился на 15-20 лет, говорили – «девушка, копи разума до 20-го году»: они невестились, находились в цвету, о них говорили как берёза на соку, называли девки, девки на выданьи, красны девицы, последний термин свидетельствовал о здоровье и зрелости девушек-невест; «баска дородна, на щёчках ямки»; «баска дородна, бела да красна»; «баска дородна, сквозна бела» — через цвет (красный — белый) и округлость телосложения (дородность) отмечали красоту девушки, способность к деторождению. Об этом говорится и в одной усть-цилёмской припевке:
Вдоль по бережку конь бежал,
Да вдоль по крутому вороненькой,
Да конь головушкой покачивает,
Да золотой уздой-то потряхивает,
Да стременами пошевеливает.
Да тут упал Иванушка с коня,
Да упал, упал у нас Тихонович с добра,
Да вспоминает свою л ю б у ш к у,
Да Александрушку г о л у б у ш к у.
Да где-то, где-то моя любушка
Да Александрушка голубушка?
Да без белил она б е л е ш е н ь к а,
Да без румян она а л ё ш е н ь к а,
Да калачами была вскормленная,
Да пряниками да лицо с б е л ё н о е.
Девушкам разрешалось белиться/румяниться, замечу, что это ценилось парнями, о чём свидетельствуют частушка:
Гармониста любить Надо чисто ходить.
Надо б е л и т ь с я, р у м я н и т ь с я
И брови п о д в о д и т ь.
В молодёжном кругу отдавалось предпочтение бойким в работе и находчивым девушкам, обладавшим хорошими голосами, знавшими песни, но с присущим им смирением. О них ходила «слава» в округе, а односельчане подмечали: «Хороша уродишься, во Славушке находишься»; «Невесту выбирают не глазами, а ушами». Родители таким невестам говорили: «Девка-невеста говорит полуротком, глядит полуглазком»; «Хороша невеста да сиди у места. Плох жених да посватается». В сельской округе для девушки считалось неприличным самой проситься в жёны. Резвость её должна быть в меру, и именно в девичестве они обладали решительностью и известной свободой, об этом свидетельствуют, в частности, браки «уходом». Воля девушек отражена в частушечном жанре:
1. Утка бела, грудка сера,
К огороду приплыла
Девка смело к парню села,
Разговоры завела.
2. Попляшите в пол сапожечки,
Недолго вам плясать.
После Пасхи выйду замуж
Вам на полочке лежать.
В исключительных ситуациях, в число которых входило сватовство неполноценного жениха к здоровой, хотя и небогатой невесте, девушка имела право на известную грубость в общении со сватами, которая не порицалась сельским обществом. К примеру, такое антиповедение передано в следующем анекдотическом рассказе: «Жених сваталсэ с “приветом”. Невеста-та была нужна, а он богатого роду. Женихова родня без согласья девки дали задаток, именьём раньше называли. Родители девки бенны, дэк задаток-то и взяли, а дочи и знать не знат, шшо ей замуж выдают. Именьё прожили, время пришло, должны приехать по невесту, родители и рассказали девки, а сами не знают шшо и делать: и именьё прожили, и дочерь жалко за полоумного отдавать. Невеста и говорит родителям: “Вы идите, а я с има справлюсь”. Приехали сваты с сушуном, невесту хотят нарежать, спрашивают: “Где отец, мати?”. Девка отвечат: “Отец дрова сёк да пол х…а отсёк, ушел в кузницу приковывать”. – “Мати-та гдей-но?” – “Мати блины пекла, пол «пирога»* сожгла, ушла лечиться.” А девка из угла в угол ходит, рука о руку колотит. Сваты и спрашивают: “Ты пошшой-но ходишь, руки колотишь у себя?”. – “А я ночью хоровод водила, да мужиков за х…р водила, сённи руки болят”. Сваты перегленулись, думают: у нас жених не совся, да невеста не шипко… Скоре назад домой, и уехали, и никако назад именьё не надо, а то позору не обобраться».
* Метафора женского полового органа.
Текст насыщен мифологическими сюжетами, характеризующими ситуацию как неправомерную. В святочных играх роль кузнеца, «способного» перековать старого в молодого, связывается с представлениями о перерождении, обновлении, в нашем случае, скорее указывает на несостоятельность жениха. Вместе с тем «лечением» и уходом родителей из дома также аллегорично объясняется их отказ решать вопрос положительно, указывается безысходность затеи сватов (ср.: вариантами отказа сватам было отворачивание от них одного из родителей невесты, или сидение к ним вполоборота/спиной). Повсеместно категорически запрещались браки с психически больными людьми, что могло привести к вырождению рода. Сватовство умственно неполноценного жениха и его родни воспринималось сельским сообществом как осмеяние рода невесты, представители которого по-разному реагировали на ситуацию. В сюжете через молодёжные (хороводные) бесчинства раскрывается здоровая энергия девушки, способной к браку и деторождению. Данный текст информанты характеризуют как поучительный, призывавший с достоинством относиться к невестам, в том числе и из бедных семей.
Чрезмерная скромность обрекала девушек на одиночество даже в молодёжном кругу, их не приглашали танцевать, как рассказывают информанты «из-за них не дрались» и в целом о них говорили как о «неживых». Таким девушкам приходилось рассчитывать только на сватов и случай.
Особую категорию составляли ленивые девушки, в том числе и из богатых семей. К таким неохотно сватались, чаще в исключительных случаях, когда женихам приходилось принимать отказы от других семейств. Ленивых невест из зажиточных хозяйств брали исключительно из-за их богатого приданого и возможности использовать помощь новой родни: «Милка, ты коса, горбата, да червонцами богата, за то и люблю». «Долго спишь, всех женихов проспишь», «Женихи пришли, все ворота обостели**», – будили сонливых невест, не стремящихся к труду, рукоделию.
** Обоссали.
Во взаимоотношениях молодежи зафиксированы «правила» поведения, согласно которым парень и девушка договаривались между собой о дружбе на определённый период времени с тем, чтобы больше узнать друг о друге. В течение этого срока девушка должна была отвергать ухаживания парней, а юноше воспрещалось заглядываться на других девушек. Гарантией этого являлся обмен рукавицами: «Я молода была, мы на участке жили и с онным парнем обменелись рукавицами, он мне свои рукавицы дал, а я ему свои перчатки. Это как дружить будем, на других не гледим. А потом он на меня не глядит. Оказывается, он ревнивой был, то и не глядел. А я улыбчива всю жизнь. Я и не стала с ним дружить, раз ревнивой был. Потом он хотел меня к своим родителям заташшыть, я – нет, думаю там меня натяпкают ещё. Ране ведь бабки всяки были, погладят по спине и всё притаговатают, выйдешь замуж. Я не пошла. Так не чё у нас и не получилось. И рукавицы так и остались, я их не носила».
Считалось, что после 20 лет девушка начинала увядать, о ней говорили «девка в годах». Если к этому возрасту у неё не было пары, то общественное мнение начинало считать её года, которые называли лавками: «…Я не л а в о ч к у у тя просидела, / Не сундук платьев поизносила…», – причитывает невеста не старше 20 лет. Лавка в славянской культуре символизировала жизненное, наполненное пространство дома в противоположность пустоте смертного жилища, а в свадебном обряде сидение на лавке в доме противопоставлялось молодёжным гуляниям. Поэтому девушки стремились до 20 лет выйти замуж; каждый год из следующих пяти лет исчислялся метафорически напрасно просиженной лавкой, этим выражали и бездействие девушки, неспособность вызывать интерес у парней. Как и повсеместно, в усть-цилёмских семьях соблюдался принцип старшинства в браке. Выражением оставить сестру на лавке констатировали обречение на одиночество/ безбрачие старшую дочь в семье в случае раннего ухода замуж младшей.
Несмотря на сложности семейной жизни и многочисленные несчастные женские судьбы, девушки всемерно стремились к замужеству: «Баба кается, девка замуж пихается», «Баба плачет – горе мучит, девка плачет – замуж хочет».
Самовары закипели,
Девки замуж захотели.
А ребята не берут —
Девки рёвушкой ревут.
Замужние женщины всячески отговаривали малолетних невест от раннего замужества: «Походишь по больно брюхо, да некрасиво лицо/рожу»; «Не у татки, не у мамки, не разляжешься на лавке», пытались продлить их вольную девичью жизнь, повсеместно признаваемую в жизни женщины лучшей. Об этом сложены многочисленные частушки:
Девки замуж, девки замуж,
Дурочки торопятся.
Девки девичья-то жизнь
Обратно не воротится.
Замужество для девушки, даже несмотря на разные трудности, было всегда желанным и связывалось с её защитой и упрочением в жизни: «С мужем жена – чисто госпожа, без мужа жена – чисто сирота»; «Худой мужичишко, да притульичко: за него завалюсь, никого не боюсь»; «Солнце выйдет, так тепло, замуж выйдешь, так добро»; «За мужниной спиной жить». Неслучайно в ритуальных плачах муж наделяется высокими эпитетами – гора высокая, стена каменная, стена городовая, лада милоё. Счастливый брак придавал женщине социальную защиту и уверенность в житейских/хозяйственных делах, о чём и свидетельствуют эти присловья. О неблагополучных замужествах в печорских деревнях говорили: «На печи мытьё да замужем житьё». Родители стремились вырастить дочь здоровой, работящей, целомудренной с тем, чтобы её выдать замуж, не посрамив род, иначе дальнейшая жизнь дочери представлялась безрадостной как для них, так и для неё самой. И.Е. Забелин, основываясь на книжных средневековых памятниках, пишет: «Выход замуж определял её (девушки — Т.Д.) сущность призвания. Если этот единственный выход чем либо преграждался, то дочь теряла всякое значение для общества <…> Таких дочерей удаляли из общества как членов вовсе излишних и никуда не пригодных». Поэтому девушки проявляли немалую активность и решительность, чтобы выйти замуж, и каждая из них надеялась на счастливую жизнь с любимым человеком, или с тем, кого выбирали ей родители. Кроме экономических и социальных причин необходимость в замужестве обусловливалась и церковными правилами, запрещавшими интимную связь мужчин и женщин вне брака, понимаемую как «блуд». «Плодиться» и «размножаться» в паре было заповедано Богом, таким образом, жизнь в супружестве понималась и как исполнение Божьей воли: «Женитьба – воля Божья».
В 25 лет девушка выходила из категории невест в категорию старых дев с названиями перестарок, браковка, вековуха, говорили: «Кислые шаньги не еда, старым девкам замуж не хода». Выражением сидеть/просидеть за дымником также характеризовали одиноких девушек на возрасте. По свидетельству информантов, бывало, что и девушки из знатных и богатых родов оставались «в девках», но не по своей воле, а родительской, поскольку те выжидали богатых женихов. Случалось и такое: девушек из-за непокорного, высокомерного характера никто не сватал. В этом случае сельчане иронизировали: «Платье на грядке, урод на руках»; «Сундук с бельём, да невеста с горбом»; «Все парами, все парами*, только я верчу шарами**»; «Живёт как яга ягична».
* Парами.
** Глазами.
Женихи между собой осуждали строптивых невест, бывало, злонамеренно желали: «Пусть сидит и между ног плюёт» или иронизировали: «Так никто и не нюхнул». Невыход замуж связывали с тем, что девушка не прошла социализацию или в отношении её в детстве не были исполнены необходимые ритуалы, направленные на «открывание органов». Первое обрядовое закрепление полового различия для девочек происходило в полутора-двухгодовалом возрасте. В их пестовании наиболее показательна традиционная прибаутка с зачином «Анночка / векушка-горожаночка», которую исполняли старухи, предварительно посадив девочку на стопу ноги лицом к себе «промеж ног». Они держали её за ручки и покачивали. Форма игры имела явно эротическую направленность, подтверждавшуюся завершавшими её словами потешки: «Б о р о д а, посередке щ ы л ь, / Да пригодится всим». Данными метафорами впервые в игровой манере фиксировался пол ребёнка. В подобных играх, безусловно, обнаруживается связь с продуцирующими обрядами. Участие в них старух, которым, как известно, приписывалась повышенная магическая «колодовская сила», вероятно, должно было благотворно воздействовать на будущую сексуальную энергию девочки, её детородность.
В прошлом одинокую немолодую девушку, как не исполнившую природное предназначение, устраняли из семьи и общины. Повсеместно считалось, что старые девы в связи с неудавшейся судьбой с возрастом становились озлобленными на жизнь, о чём говорится в усть-цилёмских присловьях: «Старая дева как цепна собака»* «Есть в семье старая дева и чёрт не нужен». Им приписывались вредоносные качества: обладание «тяжёлым взглядом», способным к сглазу; в семьях, где проживали такие девушки, ожидали падёж скота и другие неувязки в хозяйственных делах.
* Как злая собака на привязи.
На Руси «старых дев» отдавали в монастыри, позднее – в скиты, а после закрытия последних девушки оставались до конца своих дней в родительском доме, и по этому поводу о каждой в усть-цилёмских селениях говорили, что она пригорела родителям, т.е. они вынуждены были до конца своих лет заботиться о ней. Жизнь незамужней была безрадостной, и ей приходилось «веки одной куковать», т.е. не только проживать в одиночестве, но и оставаться в стороне от празднично-обрядовой жизни общины. «Засидевшихся» невест замужние женщины всегда утешали; выражением руки сыщутся ‘кто-нибудь ещё посватается’ желали скорейшего замужества. По церковным правилам после 25 лет девушка могла самостоятельно принимать решение в случае жизненных перемен, не спрашивая разрешения родителей.
В усть-цилёмском говоре зафиксированы различные варианты выражения выйти замуж, по которым доказательно устанавливаются причины и особенности замужества. Выход замуж, как и повсеместно, означал переезд девушки на новое место жительства – в дом/семью мужа. Фразеологизм замуж уйти (прийти) раскрывал не только факт совершённого действия – выхода замуж, но также переезд девушки в другую деревню с целью дальнейшего проживания, или в рамках одной деревни в семью мужа. О женщине, остававшейся жить в родительском доме с мужем (примаком), не сообщали как о «замужнице», говорили «с мужиком прожила»; перемену её статуса объясняли «мужик пришёл на житьё»: «У нас мама замуж не ходила. К ей папа на житьё пришёл. Она жила с бабушкой, мужика в доме не было. А дом без мужика пустеет, надо в дом мужика. И папа пришёл жить, в приняты». Устойчивым сочетанием замуж отдавать (выдавать) подчёркивали факт замужества девушки по установленному обряду с родительского благословления, тогда как выражение уйти уходом и термин сошлись свидетельствовали о практиковавшейся форме брака без согласия родителей, тайно. Взять, брать замуж – так говорили в тех случаях, когда парень проявлял самостоятельность в выборе невесты, без учёта мнения, иногда благословления родителей; в другом случае сообщали – парня (сына) женили. В случае преждевременной смерти мужа намерение женщины о следующем замужестве раскрывается в выражении взамуж походить. Данным выражением также констатировали факт многократных выходов замуж. Замуж ходить ‘о замужестве в прошлом’; уходить замуж ‘быть замужем непродолжительно’. Чрезмерное стремление девушки выйти замуж в раннем возрасте чаще без согласия родителей отражено в устойчивых сочетаниях замуж запоходить, повыскакивать замуж. пихаться замуж, передающих негативный характер таких замужеств. Последнее выражение также применялось к девушкам разных возрастов, невысокой нравственности. Взамуж бежать ‘выходить замуж по своей воле’. Пойти замуж ‘согласиться на брак без размышлений’. Этим выражением сообщается безысходность дела: как замужество по принуждению, так и в силу жизненных обстоятельств, например, чтобы избежать тяжёлой работы: «На лесосплав надо было ехать, а не хотела. Приехали сватать и пошла за нелюбого.
Звал умный – отказала, пошла за глупого». Лексемой замужничать иронично свидетельствовали о замужестве, совершаемом вопреки предписываемых обычаем правил: раньше или позже положенных лет, о третьем и последующих браках. Об имевшихся в семье дочерях брачного возраста говорили взамуж иметь. Фразеологической единицей выйти замуж из-за греха отражали выход замуж по причине беременности, при этом, как явствуют полевые материалы, так говорили в случае выхода замуж как за реального отца ребёнка, так и парня, «выручавшего» девушку, но только в том случае, если она ему нравилась; после рождения признавалось отцовство. В приведённых выражениях раскрываются образность, конкретизация, точность значений происходящего действия и свадьбы в целом.
Молодых людей брачного возраста называли парни, робята, полный жених, а нашедшего пару девушки между собой и в частушках называли ягодинка/ягодиночка, дроля, милёнок:

Подпись на фото: Иван Гаврилович Носов (род Огрушиных) и Агафья Петровна Носова (род Лёвкиных). За месяц до свадьбы, с. Усть-Цильма, июнь 1929 г.
1. Я г о д и н о ч к а уехал
В города во дальние.
Из-за него не греет солнышко,
Деньки туманные.
2. Д р о л я вспомни тот денёк,
Когда ты меня завлёк.
Ты был в беленькой рубашке,
Ремешок на левый бок.
3. Истопилась, истопилась
В огороде баня.
Споженился, споженился
Мой м и л ё н о к Ваня.
Родители желали дочери мужа (а себе зятя) работящего, «чтоб смирёной был, табаку не курил, чтоб не пил, не дурачил, не воровал». Парня старше 25 лет называли переходник, после 30 лет – кобель, бобыль; бобылём ходить / быком ходить ‘быть неженатым, остаться в холостяках’.
В промысловых районах большой проблемой была гибель мужчин. Во вдовстве мыслилось житьё убогое, да сиротливое, предстояло жить позориться. Женщинам было очень сложно в одиночестве растить детей, чаще они вступали в новый брак, но для этого существовали ограничения. Крайний срок вступления в брак для женщины обусловливался ее репродуктивностью, верхняя граница которого определялась в 40 лет, а для мужчин – в 50 лет. Женщина, вышедшая замуж позднее установленного срока, по правилу Кормчей книги лишалась «благого общения» и в миру обрекала себя на поругание старцами, которые отстранялись от неё до тех пор, пока та не разрывала отношений с мужчиной. В народе о таких женщинах иронично говорили: «Девушка невестится, с бабушкой ровесница». Нередки были случаи, когда женщина в молодом возрасте становилась вдовой и не желала следующего замужества. Знаком её решения было исключение из гардероба женского головного убора – кокошника. В этом случае свахи не задавали лишних вопросов относительно будущего женщины и не оспаривали её мнения.
Про женившихся стариков говорили: «Не на век стар жениться, а свой обычай тешит»; «Старому старику не женитьба, а кислому молоку не молитва»; «На старость дал Бог ярость»; «На старость жениться, чужая корысть», т.е. жена будет иметь любовника. Существовали и другие ограничения для брака, закреплённые в правилах Кормчей. Так, вдова могла только один раз выйти замуж, а вдовец дважды. За вторичный брак староверы на два года отлучались от общего моления, соблюдали жесткий пост, исповедовались и отмаливали епитимью; в случае третьего и последующего браков, согласно правилу Василия Великого, мужчина отлучался на пять лет. Последующие сожительства, по церковным правилам, характеризовались блудом: «четвертым браком оженивыйся, больше блудника согрешает», а в народе назывались «скотские». Были и такие случаи, когда мужчины при последующих браках с бравадой говорили: «Жениться, как с горы скатиться», чем подчёркивали свою удаль и интерес к себе девушек.
Существовал церковный запрет для мужчин и женщин на вторичный брак с братом мужа или сестрой жены, но нарушение для мужчин было более снисходительным: его отлучали от соборного общения на семь лет, в течение которых он должен был раскаиваться и нести епитимью, женщину отлучали пожизненно или до того, пока не расторгнет отношения с мужчиной. Следует отметить, что к женщинам требования были жёстче. Но несмотря на жёсткие «книжные» правила в жизни происходили послабления, особенно, если в многодетной семье один из родителей погибал/умирал преждевременно. В этом случае общинники сообща подыскивали пару с тем, чтобы облегчить жизнь семье.
В Градском законе Кормчей книги отражены различные жизненные случаи, находившие применение в практике. Так, если жена отказала мужу в супружеских ласках, и он шёл к другой, то грех оставался на жене. Вместе с тем гулящих мужчин общество осуждало, говорили: «Чужой мужик не на потеху, а на просмеху». В прошлом подлежал отлучению от церковного общения мужчина, без причины оставивший свою жену и женившийся на другой. Проклятию подлежал мужчина, открыто возненавидевший свою жену: «Аще кто законный брак порокует, и верну сущу жену и благочестиву, и говейну, смешающужеся с мужем своим ненавидит, или поречет глаголя, яко сия не может войти в царств небесное, да будет проклят». Неслучайно на свадьбе перед выводом дочери к жениху отец спрашивал его: «Будешь ли любить, ценить, почитать жену свою» и только после утвердительного ответа передавал дочь зятю. О мужчине, оставившим семью ради другой женщины, говорили, что его будут преследовать пожары. По местному обычаю, парень, «испортивший» девушку, должен был содержать её до конца своих дней.
Таким образом, в народной культуре устъ-цилёмских староверов сохранялись чёткие представления о своевременности важнейших событий в жизни людей, главным из которых был переход во взрослое состояние, закреплённый обрядом – свадьбой. А.К. Байбурин пишет: «Введение временных границ существенно снижало степень неопределенности перехода в новый статус, а ритуал окончательно фиксировал момент перехода. Причём не только фиксировал, а создавал новых людей – мужа и жену – и одновременно новый социальный феномен – семью». Только женатый мужчина и замужняя женщина считались состоявшимися людьми, становились хранителями народного опыта, знаний, трансляторами культуры.
В старообрядческой среде безбрачие не осуждалось, если холостыми оставались представители общины, страдавшие какими-либо недугами. Одинокие люди, за исключением психических больных, чаще всего посвящали себя служению Богу, и впоследствии становились сведущими в делах религии. В других случаях, как и повсеместно, безбрачие рассматривалось как Божья кара за грехи родителей.
Глава 3
ИГРЫ КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛА: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Создание благополучной семьи было одной из важнейших задач общины. В связи с этим участие сельских жителей в календарных и семейных обрядах следует рассматривать, прежде всего, как заботу об односельчанах, выражение всеобщей поддержки и разделение радости по случаю зарождающейся новой семейной пары, что, несомненно, являлось залогом её успеха и благополучия, а в рамках сельского мира – гарантом порядка и гармонии в общине.
Молодёжные забавы и развлечения календарного цикла соотносились с ключевыми астрономическими событиями и праздниками: периодами зимнего и летнего солнцестояния, Рождеством, Масленицей, Пасхой, Николин (22.05. н.ст.), Иванов (7.07. н. ст.) дни и Покров (14.10. н.ст.); трудовыми процессами (земледельческо-скотоводческие, прядение), а также повседневными подвижными играми, не связанными с ритуальными действиями и обрядами. Согласно выводам Т.А. Бернштам, годовая игра молодёжи определялась тремя временными периодами:
1. с Великого поста до летнего солнцеворота, когда игра проживала свою первую жизненную стадию – молодость;
2. с пика летнего солнцеворота до Масленицы молодая игра переживала вторую стадию жизни – старость/ зрелость;
3. Масленичная неделя – период символической смерти – возрождения.
В таком же временном порядке будут рассмотрены календарные игры в данной главе.
Полоролевая активность молодёжи определялась местом проведения обрядов и игрищ: в уличных забавах решительность и удаль проявляли парни (за исключением хороводных гуляний), тогда как в домах полноправными хозяйками и заводилами были девушки. Ролевое празднично-обрядовое поведение молодёжи обуславливалось общими представлениями о статусах мужчины и женщины, их правами и обязанностями в семейной жизни. Мужчины проявляли силу в борьбе, подвижных играх, мастерство в управлении лошадьми; девушки демонстрировали радушие, ласку, умение урегулировать ситуацию, исполнительское мастерство, пластику тела (в танце).
Церковные правила, регулировавшие будничное и праздничное поведение, призывавшие к воздержанности в общении и избеганию бурных веселий, в полной мере исполняли насельники скитов и люди, избравшие аскетическую жизнь. Нарушение правил понималось сельским населением грехом и требовало покаяния, но несмотря на это к молодёжному игровому досугу наставничество проявляло гибкое отношение и не препятствовало раннему подключению подростков к обрядовой жизни, мотивируя: «Молодо-зелено, погулять велено». «Дедовские» обычаи в старообрядческой среде высоко почитались и не подлежали забвению, поскольку наряду с церковными правилами именно они регулировали жизненный порядок сельского общества.
§ 1. Весенне-летний период
Великий пост — время, когда молодёжная игра замирала, песенно-плясовые развлечения запрещались, говорили: «Великий пост прижал девкам хвост». Начальной датой возобновления молодёжного общения было 14 марта (н. ст.), говорили с Евдокии можно мячом играть. Для устьцилёмов дата связывалась с первым весенним днём, по нему примечали: капель предвещала раннюю и быструю весну, мороз – позднюю и затяжную: «На Евдокию птичка напьётся воды, то ждать раннюю, тёплую весну, а нет, то весна будет затяжливой. По старому 14 марта считался первым днём весны». Молодёжный досуг был определён исключительно уличными подвижными играми во все оставшиеся дни поста, кроме последней (Страстной) недели. Досуг регулировали старцы, разрешавшие и определявшие детям и молодёжи игровое время – днём (засветло): «Мы молодяжником были, уже невестились, мамка отпустит мало время поиграть на дорогу. Бывало отец выйдет, окликнет, или скажет: “Пока самовар закипат играйте, и сразу домой». Знали како время нодо, шшэбы самовар закипел. Слушались, боелись, другой раз играть не отпустят. Иногда старики за нас заступались, скажут молодо-зелено погулять велено и опеть отпустят».
Следующей важной датой земледельческого календаря было 30 марта – Алексеев день (н. ст.), связывавшийся с пробуждением земли, «её согреванием». Устьцилёмы говорят: «Земля загорится, снег будет таять от земли, а лёд от воды. После Алексеева дня снег хоть с собаку нападёт – прибавку нету». Перемены в природе предопределяли изменения в поведении человека, его активности; снимались отдельные ограничения и запреты. По некоторым данным, в Великий пост после Алексеева дня молодожёнам первого года семейной жизни разрешалось сексуальное общение, выносившееся на покаяние. С этого дня молодёжные игры становились оживлённее и продолжительнее; девушкам разрешалось по воскресеньям ношение праздничной недорогой одежды.
Из «переходных» весенних игр известны две: в бачу – девичья забава и в грехи, в которую играли все подростки и отчасти молодёжь. Девичья игра связывалась с объединением девушек, достигших брачного возраста, и подростков в единую группу, с тем, чтобы в течение года единым коллективом «прожить» годовой круг развлечений. По старинным условиям игры, участницей могла стать девушка, получившая в подарок от парня биту – бачную палку, изготовленную дарителем. Приведу описание игры, составленное Д. Травиным в 1920-х годах в Усть-Цильме: «В эту игру девушки играют на дороге в период Великого поста, нарядившись в красивые шёлковые сарафаны. Водящую выбирают по жребию. Для этого участницы становятся у черты, проводимой на снегу, и с носка ноги, придерживая палку за ручку, бросают её вперёд: чья упадёт ближе всех, та (девушка — Т.Д.) водит. Бача ставится в круге и сшибается палками, бросаемыми девушками поочерёдно. Когда палки все брошены, девушки бегут за своими палками; водящая в это время должна успеть поставить бачу и занять место у черты раньше какой-либо из девушек, побежавшей за палкой. Опоздавшая водит». Бача представляла собой деревянную «скульптуру» с шаровидным навершием, высота которой определялась 30-35 см, без орнаментики и раскрашивания. Усть-цилёмки называли её «девушка в сарафане». Бачная палка (средняя длина 50-60 см) округлой формы, за исключением рукояти украшалась резьбой и окрашивалась в разные цвета. Исследователи трактовали её семантику как фаллическую. Мною записаны два варианта этой игры, в одном из которых интересна форма наказания проигравшей участницы: девушку катали по бачным палкам, уложенным в ряд, что явно связывалось с эротической символикой.
Любопытно и то, что опрашиваемые женщины вспоминали: для них было забавным, когда девушки, входя в игровой азарт, тыкали друг дружку палкой в зад. В прошлом участие девушек в подобных «переходных» играх было обязательным. В процессе игры важным было не только исполнение всех условий состязания и демонстрирования сноровки, но и воплощение игровых вольностей девушек, свидетельствовавших об их готовности к браку, что символически и показывалось в игровом кругу. Важно отметить, что игра была публичной и «проводилась при большом скоплении зрителей, желавших посмотреть на девушек и их игру». Следовательно, функции первой весенней девичьей игры определялись сплочением группы и «смотринами» невест. Во второй половине XX века игра утратила своё былое назначение и в ней уже участвовали как девушки, так и парни.
Из досуговых развлечений особую популярность обретали хороводы и игры с мячом, которые по мнению Т.А. Бернштам, следует рассматривать в контексте семейно-брачных отношений. В нашем случае особый интерес представляет игра с мячом в грехи, описание которой привожу полностью. Игра начиналась без предварительного выбора водящего – у кого был мяч, тот и начинал: подбрасывал его и выкликал имя игрока, кому мяч был предназначен, сопровождая пояснением «живых» или «мёртвых». В этот момент игрок, которому адресовали мяч, должен был успеть выкрикнуть «мёртвых» с тем, чтобы ему было легче «выбивать» игрока. Получивший мяч становился водящим. Если он ловил мяч, то тут же его переигрывал – переадресовывал следующему игроку (по своему выбору). Случалось, что мяч приходилось подбирать с земли, и пока игрок шёл за ним, остальные игроки разбегались. Движение прекращалось в момент, когда водящий брал мяч в руки и говорил: «Стоп». При пояснении «живых» игрокам предоставлялась определенная свобода в движениях, но необходимо было одной ногой стоять на месте, а выкликание «мертвых» требовало абсолютной неподвижности. Водящий должен был мячом попасть в кого-нибудь из участников игры. В случае меткого попадания грех засчитывался затяпаному, и он переигрывал мяч. Если игрок «мазал», то ему засчитывали «грех» и мяч также переигрывался. При наличии трех «грехов» игрока «женили на трёх пальцах руки»: мальчиков – на пальцах руки девочки, девочек – на пальцах руки мальчика. Каждому из трёх пальцев придумывали имя, смешное, на взгляд игроков. Обсуждение имён происходило втайне от проигравшего. Мальчиков наделяли женскими именами, девочек – мужскими. Проигравшему предоставлялось право выбора. В дальнейшем в игре участника выкликали согласно полученному имени. Игра была продолжительной и иногда все участники обретали новые имена, а те, кто первыми совершили промахи, успевали получить и новые отчество и фамилию.
Таким образом, грехом в игре обозначалась ошибка игроков: в одном случае промах водящего, не попавшего мячом по игроку, в другом — неспособность игрока увернуться от точного броска. В прошлом в детских играх с мячом промах игроков имел и другое название – окара, что, вероятно, тождественно понятию «огрех» ‘ошибка’, активно используемого устьцилёмами в настоящее время. Согласно христианскому учению, грех – «всякое, как свободное и сознательное, так и не свободное и бессознательное отступление делом, словом и даже помышлением от заповедей Божьих и нарушение закона Божия», следовательно, в названии игры отражены ранние представления о грехе явно глубинного (дохристианского) значения.
Заслуживает внимания и межгрупповое поведение участников игры, раскрывающее взаимосвязь детской игры с мячом с древнейшими инициационными обрядами. В ходе игры возрастные участники подвергали младших испытаниям, например, насмешкам или болевым приёмам. Бросок по игроку сопровождался различными выкриками, такими как «Матрёна, утри нос ворона» (адресовано «пожененному» мальчику). Бывало, удары мячом были достаточной силы, что оставляли синяки, но подростки (преимущественно мальчики) должны были мужественно терпеть и скрывать боль. В рамках игры происходило испытание младших игроков на зрелость: если проигравший («поженённый») игрок без обид воспринимал суть происходящего, то он становился кандидатом для перехода в следующую возрастную группу. Рассматриваемая игра являлась одной из переходных игр, через которую дети «усваивали» определённую систему знаний и выходили на новый уровень молодёжных взаимоотношений – выходили на возраст.
Пасха
Светлое Христово Воскресение, как и повсюду в христианской традиции, считалось самым главным праздником в году, когда духовно побеждалась смерть: «Христос воскресе из мёртвых, смертью смерть поправ, и гробным живот даровав» (пасхальный ирмос). В нижнепечорских селениях Пасха считалась и первым весенним праздником, о его светоносной силе говорили: «В Паску день долгой, в три раза дольше. За день солнце трижды отдыхат». Первая пасхальная неделя называлась радальница, существовала примета: кто в Пасху плачет, тот весь год проведёт в грусти и слезах.
С наступлением Пасхи жизнь в деревне оживала, молодёжь переносила свои игры (общение) из закрытых пространств на улицу, говорили: «В Паску у молодёжи расширились глазки». Одним из символов Пасхи были качели, которые устанавливали на высоких обзорных местах, где в течение сорока дней до праздника Вознесения Господня и проходило общение сельских жителей. Возводились качели двух типов: зыбочные (карусельного типа) и жердёвые (козлы). Первые, по рассказам сельских жителей, бытовали до середины 1920-х годов, устанавливались стационарно на возвышенных или окраинных местах, например, на высоких берегах. Жердёвые качели чаще возводили на полях или также на высоких берегах, накануне праздника поздно вечером, объясняли:
«В праздник грех козлы ставить, считали работой», но бывало и рано утром. Для их сооружения временно разбирали жердёвую изгородь, огораживавшую эти поля. Строителями являлись холостые парни и молодые женатые мужчины. Такой тип качели представлял собой две треноги соединённые между собой двумя или тремя жердями, за которые крепилась верёвка. Раскачивание производилось при помощи вожжей/верёвок. Молодёжные качели отличались от подростковых длиной сиденья и его расположением: для молодёжи сиденье крепилось параллельно перекладине, на котором качались по двое, тогда как дети раскачивались группой, рассаживаясь на длинной доске, расположенной по ходу раскачивания. Качели устанавливали на период всей Пасхалии – до дня Вознесения Господня, если весна была затяжной, и выгон скота был поздним, бывало, что их оставляли на более долгий срок, хотя это уже называлось нарушением традиции.
В народной культуре качели связывались с магическими функциями продуцирующего и апотропеического характера. В связи с этим возведение их на полях было направлено на пробуждение земли и её плодоношение, а качания на них молодёжи воспринимались как чудодейственный способ «подвигнуть», девушку или парня к супружеству. Л.А. Тульцева справедливо отмечает, что парни и девушки «собирались не просто ради развлечения, но отлично понимая, что качели и само действие качания на качелях – один из важных моментов сельской общественной жизни, влияющий и даже определяющий судьбу каждого из них». Исследователь назвала обычай «инициальнопосвятительный», в котором в единстве усматриваются процессы космоприродных изменений, гендерной социализации и любовно-брачных отношений. Концепт раскачивания и способы демонстрации умений (силы) возле качелей нашли подтверждение и на усть-цилёмском материале.
У качелей парни оглашали имена приглянувшихся им девушек и приглашали на качание. Отказываться было не принято. Присутствующие сельчане выкрикивали раскачивающейся паре «Христос воскрес!», и если симпатия девушки и парня была взаимной, то они должны были поцеловаться. Если же пригласивший парень не нравился девушке, то она могла увернуться от поцелуя, что не считалось нарушением обрядового поведения и не возбранялось: «Котора девка побойче дэк и выскочить с качелы могла на ходу». Из воспоминаний Анны Ивановны Дуркиной: «У качелы никто не шумел, не громели, не ругались. Поставят столбову качелу, раскачают: Усть-Цильму винно. Против* Паски ишшэ качелу-ту ставили. Стобову ставили на четыре человека, с ей на зиму только верёвки обирали, а столбы так и стояли. Специально запоём долгу песню, шшэбы дольше качали. Ребята у качелы стоят, в охапку нас хватают, нас целуют. А нам и не стынно нисколечки, как так и надо. А тут кругом бабы, старухи на нас смотрят, радуюцце. Пушшэ-то качелись уж на другой день после Паски, в первый ходили рядами по деревни, песни пели. Нас так бабки учили, шшэбы не стошнило от качания, а то весь пост не за чё пойдёт и пропадёт». В пасхальный период происходило определение пар, которые в течение года проходили испытания, традиционно заканчивавшиеся браком.
* Накануне.
Во все дни до Вознесения Господня девушки шеренгами гуляли по селу, собираясь в единый коллектив, и сообща шли к месту возведения качелей. Парни на обзорных местах демонстрировали силу, боролись, а также играли в подвижные игры и вслед за девушками приходили к месту основного развлечения пасхальных дней. По воспоминаниям информантов, ещё в 1970-е годы девушки, обучавшиеся в городах, приезжая на каникулы в свои деревни, наряжались в сарафаны и гуляли по селу, чем привлекали внимание парней: «В 70-е годы ещё было. Девушки домой на каникулы приедут из городов, наденут сарафаны и пойдут на танцы. Шейк танцевали под пластинки. Парни приглашали нас танцевать. Кто хотел во дворе клуба под гармонь плясал. А мы шеёк в сарафанах, красиво! По деревне ходили, песни пели в сарафанах, столбами ходили. Из одного конца деревни в другой сходим, попоём – вот и веселье».
Особое положение в пасхальные дни занимали подростки, стремившиеся войти в молодёжный круг: парни демонстрировали силу, сноровку; девушки – знание песенного репертуара, а их наряды служили знаком физиологической зрелости. В Пасху происходило п е р в о е о т к р ы т о е п р и г л а ш е н и е их в с о с т а в совершеннолетней м о л о д ё ж и: девушки, прогуливаясь по улицам, приглашали подростков на качелу; принявшие предложение становились в последний ряд. У качелей юноши-подростки имели возможность продемонстрировать свою силу перед собравшимися там сельскими жителями, например, забраться по жерди до верха качели. Если попытка была успешной, то ребята продолжали участие в молодёжном кругу в качестве испытуемых. Девушки-подростки завершали дневные качания, они должны были продемонстрировать знание песенного репертуара и исполнительские навыки. В течение года подростки находились на особом положении: над ними разрешалось иронизировать, в каждом новом (следующем) календарном обряде происходило их поэтапное принятие в молодёжный круг.
Как и во многих традициях, на Пасху девушки и молодые женщины шили новые наряды – обычай, согласующийся с идеями обновления и возрождения всех сторон жизни. Особое место в гардеробе молодёжи этих дней отводилось вещам из тканей красного цвета. «Весной природа расцветает зеленью, а девки – красными нарядами», – говорили в усть-цилёмских деревнях. Обновы также демонстрировали у качелей: облачались в красные сатиновые и ситцевые сарафаны, яркие цветастые «аглицкие» платки; надевать наряды из дорогих тканей считалось неуместным. Прежде всего такая предусмотрительность связывалась с сбережением праздничной одежды. Мужчины надевали красные сатиновые рубахи. До периода летнего солнцестояния в течение каждого праздничного и воскресного дня девушки-невесты должны были дважды или трижды появляться «на людях» в разных переменах одежды: они прохаживались по селу, водили хороводы (об этом далее), при этом важно было продемонстрировать правильное ношение нарядов. Признак новизны в одежде связывался с символикой благополучия, а переодевания девушек свидетельствовали об их готовности к браку. Выражением «весна-красна» подчеркивали наступление тепла, начало земледельческих работ, активизацию молодёжных игр (ср.: «старость не радость, не красные дни»).
Хороводные гулянья
Молодёжная игра получала дальнейшее развитие в хороводных гуляньях, которым придавалось магическое значение. Т.А. Агапкина пишет: «Продуцирующий смысл хоровода, возможно, связан с типом этого движения – обычно не прямого, а кругового или «вьющегося”, что побуждает вспомнить о «витье (кручении)” как фольклорной метафоре начала, зарождения жизни, умножения и пр.». В усть-цилёмских селениях хороводы под названием горка, проходили с Николина (22.05. н. ст.) до Иванова дня (07.07. н. ст.) по праздникам и воскресеньям, занимали центральное место в весенне-летних молодёжных обрядах. Учитывая конфессиональную специфику группы устьцилёмов, важной стороной общественного мнения в их среде стало отношение к проведению обрядовых хороводов в период Петровского поста. Несмотря на известные ограничения староверов по отношению к игровой культуре, в прошлом наставники/старцы не запрещали молодёжи и взрослым участвовать в хороводных обрядах в Петровский пост. Принципиально важно то, что горка понималась устьцилёмами как жизненно-важное ритуальное действо, направленное не только на достижение благополучия в сельскохозяйственных делах, но и на о б н о в л е н и е п о к о л е н и й, воспроизводство культуры в целом. Горка понималась как «вековой опыт предков», «на веках так бывало», а авторитет предков был неоспоримым. Поскольку молодёжные хороводы являлись важнейшими ритуалами весенне-летнего цикла, представляется уместным рассмотреть их в единстве социовозрастного состава участников, хозяйственного и жизненного циклов.
Народное гулянье горка (красная горка) хорошо известно исследователям русской культуры, которое в средней полосе России в прошлом совмещалось с пасхальными празднованиями, но определялось поразному: в некоторых местностях так именовалась Пасхальная и следовавшая за ней вся Фомина неделя; в иных краях, в зависимости от локальных традиций, красной горкой называли две-три послепасхальные недели, в течение которых молодёжь водила хороводы, устраивала игры, проводила досуг у качелей. В усть-цилёмских селениях открытие горочных (хороводных) гуляний зависело от климатических условий, вскрытия р. Печоры и готовности к земледельческим работам: «Раньше горку водили с Николина дня, если весна ранняя была. А Печора не уйдет на Николу, дэк то и не водили»; «Как земля пахать поспеет – так и горку водили». Традиционно, первые хороводы разыгрывали в Николин день (22 мая н.ст.), далее – по праздникам (за исключением Духова дня) и воскресеньям, динамика которых достигала кульминации к Иванову дню (07.07. н.ст.), завершавшему весну, молодёжные обрядовые игры и открывавшему лето с его трудовыми буднями и обрядами, главные из которых связывались с с е н о к о с н о й порой и ж а т в о й хлебов.
Определение Николина дня – устойчивой даты, открывавшей хороводный сезон, связывалось с великим почитанием святого устьцилёмами со времён образования Усть-Цилёмской слободы – заступника людей, покровителя скота, земледелия. В головном селении – Усть-Цильме – все строившиеся/обновлявшиеся православные, единоверческая церкви и старообрядческий молитвенный дом были освящены во имя свт. Николы, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Святому сулили обеты по случаю первого выгона скота на летние пастбища. Вместе с тем Николин день считался весенним праздником, к которому крестьяне-скотоводы ожидали первую траву (прочика), загадывая: «Егорий с водой, Никола с травой». Именно этот день был отправным в крестьянских делах.
Первые весенние горочные хороводы девушки и молодые женщины водили в Николин день на высоких берегах у реки, называемых горки, других возвышенных местах (угорышках), где появлялись первые проталины, и земля быстрее просыхала от влаги; возле овинов. Фигуры хоровода следовало «расписать» на земле, а не на снегу с тем, чтобы год был урожайным и прибыльным. Это важнейшее требование придает хороводам сакральный смысл и свидетельствует, что горка – это не забава, а обряд, о с в я щ а в ш и й вскрытие рек, первую траву и знаменовал п р о б у ж д е н и е природы. Повсеместно приуроченность начала игры к весне «отражала идею космосоциального единства возрастных процессов – природы и людей: рождение (возрождение) – рост (достижение зрелости/спелости) – плодоношение (вступление в брак). Замечается тесная связь раннего этапа весеннего цикла с женским началом (ведущая обрядовая роль женщин в стимуляции удачной весны – призывы, кормления, очищение и т.д.), вследствие чего «разыгрывание» пробуждения и расцвета растительности происходило в д е в и ч ь е м (разрядка в тексте – Т.Д.) хороводе, в котором участие парней увеличивалось постепенно (на протяжении весны)».
Приуроченная к датам православного календаря, горка между тем явно восходила к древним обрядам в честь Ярилы – божества плодородия, празднуемых весной; у белорусов существовала точная дата – 27 апреля. Согласно выводам В.В. Иванова и В.Н. Топорова, «Слова этого корня обычно относятся к обозначению весны и того, что непосредственно связано с её плодоносящей функцией, – с растениями, животными, человеком, и т.п., с обозначением соответствующих действий и состояний». Мифологический персонаж «Ярила», вероятно, был известен и устьцилёмам, о чём свидетельствуют материалы современных полевых исследований. Ярило – так по-прежнему называют усть-цилёмские старожилы летнее солнце, выражая этим надежду на добрый урожай, ныне уже исключительно сенокосных заготовительных работ. Такое величание солнца можно услышать только весной-летом в период длительных пасмурных дней, в ожидании солнечной погоды, как долгожданной радости, которую крестьяне называли вёдро, ведрие: «Зимнее солнце никто ярилом не называт, я не слышал, а вот летом мамаша часто говорила: “Ярило вышло”, потому что ведрие ждали, надо было сенокосить, хлеб растили. Зимой сенокоса нету вот и не называли»; «Весной солнце станет высоко ходить, пахать зачнут и приговаривают: “Кормилечё Ярило пригреват”. Тепло беда ждали». В устьцилёмском говоре по-прежнему широко бытуют слова с корнем «яр», с которым связываются представления о плодородии, животных. Некоторые термины используются и в житейских ситуациях, характеризуют поведение подростков, например, не по возрасту спешащих к супружеству/женитьбе; сельчане иронично подмечают: «парочка – баран да ярочка», что синонимично выражению «молодые да ранние».
Массовое гулянье совпадало и с традиционной ярмаркой по случаю прибытия в Усть-Цилёмский край первого весеннего каравана чердынских каюков с хлебом и различными товарами. Истомин пишет: «Почти все население волости было здесь (в Усть-Цильме – Т.Д.) в сборе, оставались по домам лишь старый да малый. Молодёжь в лучших праздничных нарядах толпами разгуливала по бесконечно длинной Усть-Цильме и водила гигантские хороводы». После Иванова дня каюки с товарами отправлялись в другие селения по течению р. Печоры, поскольку для усть-цилёмских крестьян начиналась сенокосная пора, и они вместе со скотом переправлялись на противоположный берег реки. По рассказам очевидцев, селения словно «вымирали» на период уборочных работ.
Е. Ляцкий, посетивший край в начале XX века, так передаёт свои впечатления о хороводном гулянии: «Я видел здешних девушек на хороводе. Вырядившись, словно павы, в свои шитые золотом и серебром кокошники и парчёвыя “коротеньки» и сарафаны, они чинно сходились стена с стеной под красивую по сочетанию голосов, но заунывную хороводную песню, расходились парами, образовывая круг, снова разбивали его – и всю игру вели без малейшего оживления, без веселого смеха, будто выполняли какой-нибудь с у р о в ы й, ч и н н ы й о б р я д (разрядка моя — Т.Д.). <…> Нигде не видно было молодецкого размаха, не чувствовалось неподдельного, безграничного веселья». Сосредоточенность и серьезность участниц хоровода автор связал с «неласковой природой и трудовой долей» девушек, вероятно, не разглядев в обряде исконного его предназначения. Между тем это краткое упоминание о горочном гулянье передает психологическую атмосферу обряда как жизненноважного события в жизни устъ-цилёмских крестьян.
До конца 1930-х годов горку водили в крупных и малых селениях, но главные завершающие хороводы – в Иван-день – проводили в головных селениях/центрах и праздник обретал статус съезжих праздников: «На Пижме на Иван-день горку всегда водили в Замежье. Все тут собирутся, и с Загривочной, и со Степановской, со Скитской. Но пока боровяне не приедут, горку не начинали. Они главны запевалы были. А на Петров день, когда проводили, ездили в Загривочную». Жители печорских деревень собирались в головном центре с. Усть-Цильма: «На Иван-день все ехали на горку в Усть-Цильму. Гаревски, Карпушовски все на лодках плыли. <…> В Гарево тоже свою горку водили, пошти в каждой деревни. А на Иван-день то уш в Усть-Цильмы водили»; «Ране чердынцы ездили с товаром, дэк в Устильму приезжали из деревень, пижемцы, цилемци все тутока были, и горку водили. Мамка сказывала: пижемци певуны были, они у рыбзавода горку водили, а наши (устьцилёмы — Т.Д.) пониже. Дэк потом все перейдут на пижемску горку, говорили опеть пижемци нашу горку увели. Ходили на их смотрели и слушали, беда баско они преш пели, проголосно». В этот период горочные хороводы в Николин, Троицу и Иван дни были многолюдными; собирались не только участники (как это бывало в воскресные дни), но и зрители – крестьяне разных возрастов от детей до стариков. Примечательной особенностью этих дней были семейные гощения с обильными трапезами: «Ране родников было много, семьи больши были и роднились со своима. К празднику станут заказывать гостей, к такому-то дню, такому-то часу быть в гостях. Хто не мог притти, тот обязательно отвечал, болею, ле како дело, но тако редко было. Праздники ждали. Не столько из-за питья собирались, сколько из-за песен. Здесь п е в у н ы жили, п е с н и людей д е р ж а л и».
До середины XX века в праздничное время сохранялось половое обособление: мужчин и женщин угощали за разными столами, расположенными в доме в разных комнатах; к месту проведения горки участники собирались раздельными группами по три-пять человек или шеренгами: первыми шли девушки/женщины, за ними – парни/мужчины, с песнями. На вечернем гуляньи эти границы нарушались: мужчины и женщины, парни и девушки становились в единый хоровод.
Социо-половозрастной состав участников хороводов. В прошлом о с н о в н ы м и у ч а с т н и к а м и хороводов б ы л а м о л о д ё ж ь. Горочные гулянья занимали центральное место в весенне-летних молодёжных обрядах и характеризовались устойчивыми принципами «переходного» возрастного символизма, признаками которого по данным горочного песенного репертуара являются метафоры: девушек – девица, красна девушка, невеста; парней – молодец, доброй молодец, удалой молодчик, паренёчек, миленький дружочек, соколик, соколичек, голубь, гуленёк, жених, царёв сын; общее называние – душочка. Как и повсеместно, хороводы выполняли одну из важнейших функций ритуального знакомства молодёжи и утверждения в пары. До середины 1950-х годов в усть-цилёмских селениях хороводы служили регулятором отношений в молодёжной среде. Отсюда неформальный выбор мест их проведения: на дороге, мостах (с. Усть-Цильма, д. Коровий Ручей), в деревнях по рекам Пижме и Цильме – за рекой, на лугу возле овинов; в с. Замежная – около часовни. Перечисленные локусы, наполненные глубинной семантикой, соединяющие земное и потустороннее, проход/переход по которым осмыслялся как преодоление границы между мирами.
Староверы полагают: «Каждому возрасту своё время». О поре молодёжи говорили: «Не тогда плясать, когда доски на гроб тесать», «Молодо-зелено, погулять велено». На обзорных местах разворачивалось вселенское ритуальное общение молодёжи, в праздничные дни собиравшейся в течение дня до трёх раз: на утренней горке главными участницами были девушки, вовлекавшие девушек-подростков в хоровод, дневной – девушки и молодые замужние женщины; парни/мужчины находились вблизи разыгрываемых хороводов – устраивали игры, состязались в борьбе, демонстрируя силу и ловкость. На вечерней горке хоровод объединял молодёжь и женатых участников, за исключением подростков, вовлечённых в молодёжный круг в текущем году; они находились пока вблизи взрослого хоровода, составляли обособленный круг. Лишь спустя год они становились полноправными участниками молодёжной и взрослой горки: «Недороски (подростки – Т.Д.) горку водили вечером особняком. Они свой круг ходят, взрослы – свой. И те же песни пели. Услышат каку песню старши запоют, ту и подхватывали, неподалёку были, слышали песни».
Участие в обрядовых играх холостой молодёжи брачного возраста было обязательным, в ином случае парней и девушек причисляли к анормальным и в дальнейшем их не рассматривали как потенциальных женихов и невест, шире – продолжателей родов. Для молодёжи причастность к песенно-игровой культуре была вполне естественной и, по словам информантов, «молодость на то и дана, чтобы попеть, поплясать, да себя показать». Парни и девушки в течение горочного периода определялись в пары, а в инсценировках песен завершающего хоровода – в Иванов день – «утверждались» общиной в качестве потенциальных женихов и невест, что давало им право в дальнейшем открыто демонстрировать взаимную любовную симпатию.
Особую категорию составляли люди, принявшие обет временного воздержания в увеселениях, и те, кто посвятил себя служению Богу. Для них главным признаком праздника было благочестие: пребывание в молитве и трезвости.
Участие в хороводах общинников репродуктивного возраста, состоящих в браке, отмечено лишь в дни двунадесятых праздников на вечернем (завершающем) гуляньи. Обычаем было в воскресные дни со стороны наблюдать за ходом дневных хороводов: «В то время, как девушки водили хоровод, – это было в воскресенье, часов около пяти-шести дня, – их матери, тоже разрядившись в прабабушкины шушуны и повойники, собравшись со всей Усть-Цильмы, двумя длинными рядами сидели здесь же вдоль улицы, степенно беседовали между собой, за ними на заборах и воротах расположившись, принарядившиеся мужики и подростки, тогда как другая часть парней, невдалеке от хоровода, играла в лежки и в городки. Некоторые пробовали свои силы в богатырской борьбе “крест-накрест”». Как уже говорилось, в праздничные дни семейные пары традиционно участвовали в застольях, на которых собирались родами, а вечером группами сходились к месту проведениях горки.
Строгость жизненных регламентаций предъявлялась к участию в хороводах даже в качестве зрителей глубоких старцев и младенцев, в часы гуляний остававшихся в домах. С одной стороны, это объяснялось церковными требованиями, с другой, – традиционными представлениями о хронологическом возрасте и физиологическом состоянии представителей указанных групп как уже завершивших социально-трудовую жизнь и еще не приобщенных к ней. Для крестьян в возрасте 55-70 лет, рассматриваемого в научной литературе как «первый период старости», участие в обрядах определялось их пассивным присутствием — являлись исключительно зрителями. Как хранители порядка сельского мира, они по окончании обряда могли высказывать свое мнение о церемониале (одобрение/неодобрение, назидание) и их мнением не пренебрегали. Старцы, становившиеся в хоровод, должны были обязательно исповедовать «грех участия» и отмолить епитимью, тогда как на молодёжь это требование не распространялось. Гибкое отношение наставничества к участникам обрядов прочих возрастов, вероятно, связывалось с их пониманием важности таких обрядов для воспроизводства жизни и культуры, рассматриваемых как вековой опыт предков. С другой стороны, раскаяние в грехе предполагало изменение в поведении и духовное обновление, «еже к тому не согрешати». В завершении исповеди спрашивается: «Имеешь ли сложение в мыслях и усердие сердечное исправиться во исповеданных тобою грехах? И обещаешь ли Богу потом тех не творити?». И только когда крестьяне отходили от активного участия в песенно-игровых обрядах, они исповедовались, что являлось важнейшим критерием их перехода в следующую возрастную группу. В этом случае покаяние совершали и перед сельскими жителями, которое следует рассматривать как «отголосок» монастырского покаяния, практиковавшегося в скитах, когда инок каялся и перед настоятелем, и перед всей братией.
Традиционно вечерняя горка собирала широкий круг зрителей от отроков до «недревних» стариков. В праздничные дни в домах оставались только старые девы, убогие, больные, немощные старцы и младенцы: «Ходили смотрели, кого в пару припевают, подходят – не подходят друг дружки, дравились жених да невеста, скажут добра семья будет, а новых не норовили в пару. Всяко бывало». «Горку ходили смотреть, у кого новы наряды, хто в старой одежжы, одежду ценили – богасьвом шшытали. Потом будут пережовывать, кого конуют – худо плат завязанной, ле сарафан короткой одела, а новых опеть хвалят, хто и завидует, всяко бывало. Матери женихов девок высматривали, хотя в деревни и так всех знали, но по богасьву смотрели. Хто приходил песни послушать, беда горку ждали. Тут главно смотренье было».
В настоящее время, когда исконные смыслы и значения обрядовых хороводов утрачены, некоторые усть-цилёмские наставники призывают единоверцев воздержаться от участия в горке, особенно в Иванов день, признавая хороводы «греховным игрищем в пост».
Между тем старухи призывают сохранять п р а з д н и к, который в настоящее время рассматривают как великую д а н ь п р о ш л о м у, горка с п л а ч и в а е т устьцилёмов и способствует п о д д е р ж а н и ю семейных и родовых т р а д и ц и й. Их мнение разделяет большинство жителей района.
Структура обряда. «Горка» состоит из семи фигур:
1. «столбы» или «из-за стенки» (пижемский термин);
2. «круг»;
3. «сторона на сторону» или «стенка на стенку» (пижемский термин);
4. «на четыре стороны»:
5. «вожжа» (вар.: «змейка», «долга», «верёвочка» – пижемские термины);
6. «плетень»;
7. «кадриль» или «плясовая».
Во всех усть-цилёмских селениях, где проводились хороводы, набор фигур был одинаковым, но в каждом центре (Пижемский, Цилёмский, Усть-Цилёмский) гулянье строилось по своему сценарию. Условно хороводы можно разделить на три блока:
1. Первая фигура «столбы» или «из-за стенки» – зачин горки (рис. 1). На Пижме её водят парами (мужчина-женщина), совершая переходы: пары с задних рядов переходят и становятся вперёд. В цилёмских и усть-цилёмских селениях эту фигуру составляют «тройки»: две женщины и мужчина или три женщины, совершающие аналогичные перестроения. Количество исполняемых лирических протяжных песен (в их числе были и застольные) зависело от продолжительности сбора участников обряда: «Столбами ходим пока народ собирается, тут и застольны песни поём, разны. Ходим поём, бабы приходят и мужики, ставают тройками, а как только народу прибудет, можно будет в кругу ходить, так и на другу фигуру заведут и тут уж будут горочны песни петь».
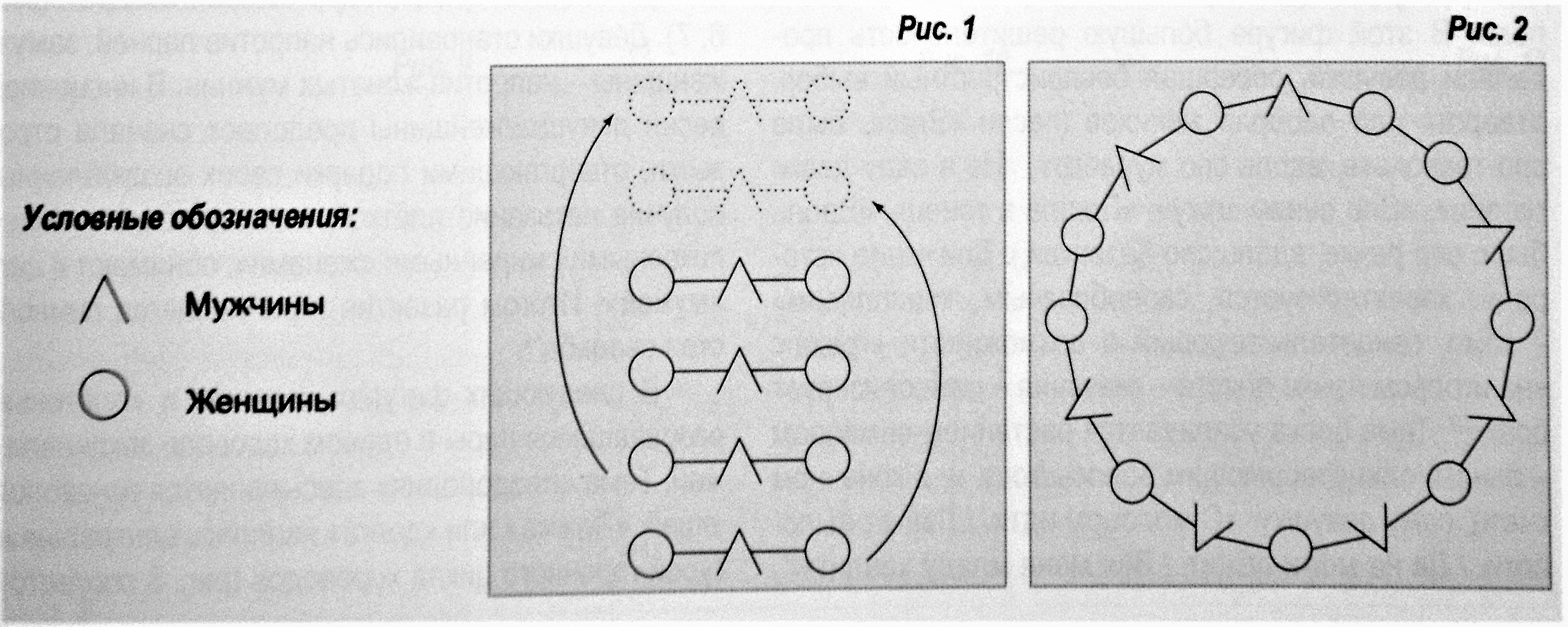
Исполнение следующих трёх фигур – «круг»; «сторона на сторону»; «на четыре стороны» – в прошлом связывалось с выбором невесты и определением пары. Начиная со второй фигуры, исполнялись песни, строго приуроченные к обрядовому случаю и назывались горочные. Каждая исполняемая песня инсценировалась. Фигура «круг» состояла из единого (большого) круга, движение которого было направлено «по солнцу» и «против солнца» (рис. 2); а также двух кругов (круг в круге), внешний из которых состоял исключительно из девушек/женщин, соединявшихся между собой через платок, а внутренний – из парней/мужчин, двигавшихся навстречу, свободно (рис. 3). Начиналась фигура с большого хоровода: парень берёт девушку за руку, девушка – парня и т.д. Этой фигуре соответствовали песни «Я капустоньку полола», «Берёза белая», «По-за городу гуляет царёв сын», «Хожу я гуляю вдоль спо каравану», «Винной от наш колодец», «Дрёма-та дремлет да спати хочет», «У нас Кирилл (иное имя) ходит спо городу». В прошлом, когда хороводы водили трижды в день, песню «Хожу я гуляю вдоль спо каравану» исполняли днём, а «Бояра» (наборный хоровод) – вечером. При этом после каждой очередной песни участники инсценировок становились в единый хоровод, считавшийся исходным в этой фигуре. В «кругу» участники действа как бы «проживают» период знакомства молодёжи: выбор/определение/одобрение пар (песни «Берёза белая», «У нас (имя героя) ходит спо городу», «Я капустоньку полола», «Вдоль было спо речке, вдоль спо Казанке», «По за городу гуляет царёв сын», «Бояра»), в шутливой форме разыгрывают сватовство (песня «Хожу я гуляю вдоль спо каравану»). Парни самостоятельно, а также с помощью «сватов» выбирают девушек-невест. Т.А. Бернштам, рассмотревшая пору совершеннолетия и свойственное этому возрастному этапу игровое поведение, отмечает: «Брачная символика усиливается за счёт огородных растений» – на нашем материале капуста – символизирующая «естественное для данного возраста, но не безопасное для девушки состояние любовной страсти (возбуждение), склоняющее её к своеволию, свободному поведению». Архаика отражена и в одном из свадебных причетов, в котором невеста метафорически называется «Ты ягодка да петровская, / Ты репочка да ильинская. / Ты куды шипко поторопилася?».
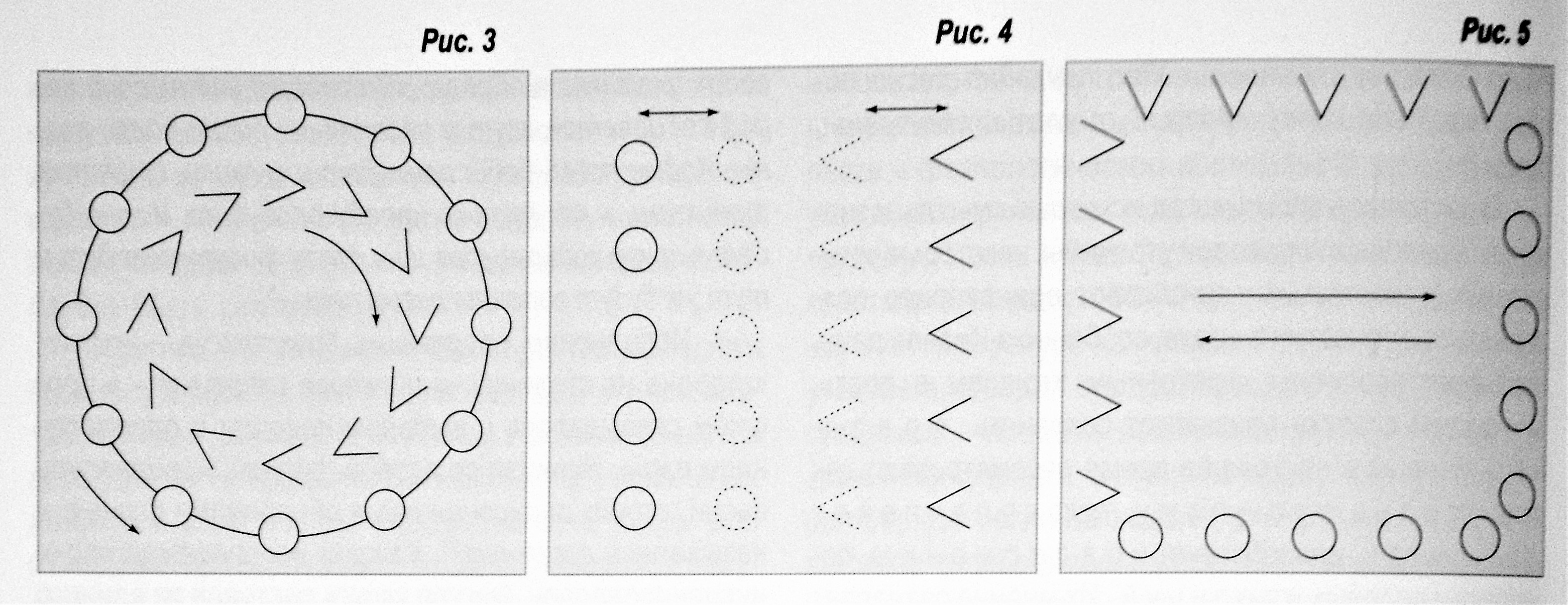
Тема «свободы» и «решительности», порой агрессивности девушек раскрывается в следующей фигуре – «сторона на сторону» – где девушки и парни разделялись и выстраивались в два ряда, словно противостояли друг другу (рис. 4). Неслучайно фигура имела и другое название «стенка на стенку», в которой активность проявляла исключительно холостая молодёжь, женатые участники хоровода стояли по сторонам и пели. В этой фигуре большую решительность проявляли девушки, совершая беспристрастный выбор, отвергая или одобряя женихов (песни «Вдоль было спо травоньке, вдоль спо муравке», «Не в саду девки гуляли», «Спо сеням хожу», «Пошла в тонец», «Вдоль было спо речке, вдоль спо Казанке»,). Движение «сторон» характеризуется своеобразным «приплясом» – темп, свидетельствующий о возможности «греха»: «на игровом языке пляска – скакания – символизирует брак». Тема брака усиливается растением-символом – льном, олицетворяющим волосы/косу, и, в конечном счёте, саму девушку: «С молоцом идти, / Лён-от выполоти, / Да на межи лежит, / Все меня младу хвалит», а также манипуляциями с головным убором, волосами, кафтаном, обувью молодца, имеющих в молодёжных обрядовых играх эротическую символику: «пуховую шапочку сонимала (вар.: замарала),/ Да русые кудерышки растрепала,/ Синей-от кафтанчик замарала,/ Смазные сапожечки затоптала», далее – «Русые кудерышки зачесала, / Пуховую шапочку надевала, / Синей-от кафтанчик вычищала, / Смазные сапожечки вытирала». Головной убор и кожаные сапоги как символ власти и силы молодца являлись важнейшими знаками его готовности к браку.
В отличие от других фигур хоровода «круг» и «сторона на сторону» водили трижды в день: на утренней горке молодёжь самостоятельно совершала выбор, распределялась в пары, на дневной – молодые замужние женщины «заклинали» женихов и невест на брак («Хожу я гуляю вдоль спо каравану»), на вечерней при участии всех возрастных групп проходило утверждение предполагаемых брачных пар («Бояра»).
Примирение парней и девушек как потенциальных мужей и жён (для холостой молодежи) происходит в фигуре «на четыре стороны» (песня «Иванов в монастырь становился»): участники выстраивались в четыре линии/стороны, образовывая квадрат (рис. 5, 6, 7). Девушки становились напротив парней, замужние женщины – напротив женатых мужчин. В инсценировке песни девушки/женщины предстают сначала строптивыми, отвергающими подарки своих возлюбленных, а получив наказание плёткой, в завершении становятся покорными/смиренными «жёнами»; обнимают и целуют «мужей». Итогом развития игры является символическая свадьба».
В следующих фигурах «вожжа» и «плетень» образовавшиеся пары в едином хороводе заклинали урожай. Тема «плодородия» здесь является основополагающей. «Вожжа» или «долга» являлась центральной фигурой горочного цикла хороводов (рис. 8 соответствует фиг. 5).
В прошлом её водили лишь в том случае, если были п р о и з в е д е н ы п о с е в ы, согласно традиционному сценарию трижды в день. Не случайно общее название хороводов имело и другое название – вожжа, ныне сохраняющееся только на Пижме. В названии фигуры заложен глубокий смысл: вожжой управляют не только лошадью, но и символически силами природы. На значительность этой фигуры в хороводно-обрядовой практике указывает вовлечение в единый хоровод и всех зрителей, которые на время разыгрывания фигуры становились его участниками: «Вожжу водили все. Старики говаривали: по нескольку километров растягивалась вожжа. Все на вожжу ставали. Вот сколько горочников было!». Фигура была представлена наборным хороводом: парень выбирал девушку, девушка парня и далее – остальные участники обряда, включая зрителей. Безусловно, весенние хороводы имели отношение к аграрно-продуцирующей магии, и участие в них должно было обеспечить успешный рост зерновых культур, получение доброго урожая и благополучие общины в целом. Фигуру водили под песню «Я то ле спо реченьке спотеку». В настоящее время проходка фигуры изменена, запевала извилисто ведёт хоровод, который напоминает изгибающееся русло реки, который плавно перестраивается в следующую фигуру «плетень» под исполнение песни «Завивайся плетень» (рис. 9, 10).
В пижемских селениях эта фигура отличалась от варианта исполнения в деревнях, расположенных по рекам Печоре и Цильме (рис. 11). Пижемцы заводили участников на круг, и в месте предполагаемого его замыкания пара останавливалась, а остальные участники заходили на следующий круг, и шествие напоминало движение по спирали. Выстроившись в колонну, участники раскручивались в обратном порядке. В других усть-цилёмских местностях «плетень» «завивали» через символические ворота, которые образовывала пара в начале хороводной цепи, а заводила вела остальных участников сквозь «воротца»; таких ворот могло быть несколько, по их прохождении участники образовывали полукруг. Комбинация соединения участников в хороводе была следующая: каждый горочник правую руку клал себе на левое плечо и захватывал там левую руку следующего. Форма такого варианта завивания и соединения участников также напоминала движение по спирали. Затем участники «раскручивались» в обратном порядке, хоровод разбивался на пары, и начиналось безудержное веселье, представленное народными танцами. В целом «старинные» танцы («Сени», «Во саду ли», «Марусенька», «Кадриль» и др.) украшали хороводы во всех вышеназванных центрах, но в каждом из них имелся свой «коронный» танец: в пижемских деревнях – «Марш», цилёмских – «Китайского», усть-цилёмских – «Коробочка». Особенность пижемского варианта плясовой фигуры горки заключалась также в том, что исключались озорные пляски, кадриль и частушки, что вполне объяснимо религиозностью пижемцев. Кружания имели своё назначение: танец был своеобразным «тестом на совместимость», девушка и парень через ритмичные движения (совпадать в танце) должны были прочувствовать друг друга, бывало, танец соединял их в пару. «Я беда любила танцевать, но не с кажным, только с тем, кто лёгкий на ногу. Бывают таки неповоротливы, говорят, ну этот как валенок, неловкой к житью будет. Бывают и девки тяжело танцуют»; «Танец – это ведь не просто так придумано. Девушка должна с каждым повертеться, кто подходит, кто не подходит, потом и пара подбиралась».
Девушки, определившиеся в пары после пасхальных дней, завершали «молодёжную игру» участием в известной игре «Дрёма», входившей на Нижней Печоре в состав весенне-летнего «горочного» репертуара молодёжи. При этом Дрёмой становились, главным образом, девушки, преуспевшие в рукоделии, что свидетельствовало об их мастерстве и готовности к браку, и в силу этого не боявшихся быть осмеянными в игре.
Общий ход празднования в настоящее время можно реконструировать, основываясь на пижемском варианте горки, поскольку о гуляньи в с. Усть-Цильма в сер. 1980-х годов могли рассказать уроженцы Пижмы, выехавшие в районный центр и составившие костяк усть-цилёмской горки. Как уже говорилось, в праздничные дни до полудня в круг становились девушки-невесты, вовлекавшие в хоровод подростков, далее следовал обед с непродолжительным отдыхом. С двух до трёх-четырёх часов дня хороводы водили девушки-невесты и молодицы первого года замужества. Вечерняя горка была самой продолжительной, в Усть-Цильме длилась с шести-семи часов вечера до захода солнца, на Пижме участники расходились по домам «далеко за полночь». В воскресные дни хороводы водили дважды и даже один раз в день, иногда это зависело от погодных условий. На Печоре и Цильме обычно на утренней и дневной горках проигрывались две-три фигуры хоровода, на Пижме до полудня водили до пяти фигур, кроме фигур «на четыре стороны» и «плясовая». На вечернем гулянии «расписывали» все фигуры хоровода.
Т. Неклюдова, рассмотревшая хореографию хороводов, отмечает: «Геометрические построения «Горки» будто вычленяют из ритуального места (на берегу, у самой реки) ещё более священные зоны, очерчивая их кругами, линиями, четырёхугольниками, спиралями. Как будто невидимая рука чертит эти фигуры, и мир покоя и красоты, вселенской гармонии нисходит на землю в образе горочного хороводного действа». Не случайно о главной завершающей горке в прошлом говорили, что она г р е м е л а, г о р к у с т а н о в и л и. В названии праздника отражено глубинное понимание жизни, символизирующее вершину трудового года, пик веселья, пору свадеб и вхождения подростков в молодёжный круг. В хороводах символически п р о ж и в а л о с ь обновление жизни. Показательно и то, что узор горочного хоровода совпадал с орнаментом мезенских прялок – одного из древнейших орудий труда, являвшегося символом женского начала (особенно девичества). Орнаментика прялки и горочная композиция имеют единую последовательность расположения фигур: «И живописные изображения на прялках, и горочные фигуры хороводных построений в живом непосредственном воспроизведении исполнены мифопоэтических символов и являют собой структуру космоса в отличие от бесструктурного хаоса, никогда не описывавшегося с помощью геометрических символов».
Развитие горки в советский и постсоветский периоды. Начиная с середины 1930-х годов происходят стремительные изменения в жизнедеятельности усть-цилёмских крестьян. Коллективное вовлечение в колхозы лишило крестьянство свободы, их естественного ритма жизни, а это предопределило изменения празднично-обрядового поведения и проведение хороводов: их начали водить дважды в год – на Иванов и Петров (12.07. н.ст.) дни, лишь вечером. Хранители традиций дают различные объяснения произошедшим трансформациям в обряде. В числе основных причин называется также неучастие в них молодёжи, которую на селе стремительно вовлекали в комсомольскую жизнь и ориентировали на строительство «светлого будущего», отвергая вековые традиции, которые характеризовались не иначе, как «отсталыми». В послевоенный период жизнь молодёжи в основном была сосредоточена в сельских клубах. Хранителями праздника становились люди зрелого, чаще старческого возраста, это привносило изменения в его проведение: утрачивались некоторые элементы обряда, изменялись правила игрового общения, из репертуара исключались песни, связанные с выбором пары, в иные годы в районном центре исключались некоторые фигуры хоровода. С каждым годом сокращалось число участников, что объяснялось отходом старцев от празднично-игровой культуры, рассматриваемой староверами как «греховной», и, как уже говорилось, в известной степени утратой интереса к хороводам у молодежи.
Люди среднего и старшего возрастов по-прежнему жили традиционным укладом и ценили привычные обряды и обычаи выше «социалистических преобразований» на селе. Н а р о д н ы й к а л е н д а р ь играл о п р е д е л я ю щ у ю роль в выстраивании их жизни: по Иванову дню прогнозировали погоду на лето и определяли урожай; к этому дню созревали целебные и кормовые травы, называвшиеся иванские, ставили первый стог сена – зарод, который был как знаком начала сенокосных работ, так одновременно и символом благополучия в разведении скота. В усть-цилёмской культурной традиции накануне Иванова дня святому служили молебен (соборно и в частном порядке), просили заступничества в сохранении выпасаемого скота и проведении сенокосных работ. Таким образом, приоритет празднования Иванова дня как вершины трудового года связывался, прежде всего, с хозяйственной деятельностью. Неслучайно именно этот день стал днём проведения завершающей горки, а в конце 1950-х годов это был единственный день проведения хороводов. Устьцилёмы, участвуя в хороводе, разделяли радость встреч и общения, входили в гармонию с природой, обретали силу на период уборочных работ и на год в целом.
Вместе с тем для жителей районного центра Иван день является заветным праздником. По преданию, здесь на холме был погребён местночтимый святой Иван – последний житель Тобышского скита, по которому в этот день на кладбище служили панихиду. По воспоминаниям старожилов, у могилы Ивана собирались жители Усть-Цильмы и ближних деревень. Со временем зародилась местная традиция: в этот день жители обходят все родовые кладбища Усть-Цильмы, кадят могилы, – Иван день стал днём поминовения усопших. В настоящее время именно к этому дню приезжают на малую родину устьцилёмы. Утром – «в чистое время дня» – они приходят на кладбища, где погребены их предки, а вечером встречаются с родными и знакомыми на горке.
По причине неустойчивых погодных условий Севера новым п о с т о я н н ы м днём в проведении хороводных гуляний стал день святых апостолов Петра и Павла: «Мы горку беда ждём, како без горки. После войны горку стали на Иван да Петров день водить.
Если в Иван день выдожжыт, то на горку никто не придёт наряды вымокнут, будут никуды негодны. Платы тоже поблекнут. Бат потому и на Петров день и стали собирацце (на горку — Т.Д.), ране то не водили. Надо на горку сходить, а то г о д п у с т о й. Даже в дожливу погоду нынь в клуп заходим горку водить, всё равно надо провести». «В совецько время всех в колхоз загонили, набыло робить, без выходных. Тут уш горки меньше стали водить, но всё равно пели, ходили по улицам пели, компаньями дома пели. <…> А после войны то уш только в Иван да Петров день на горки стали ходить, а раньше в Петров день не водили, все уш на сенокос после Ивана дня заедут. Против Петрова дня только петровшыну варили, да по огнишшам ездили – вот и всё веселье. Раньше моторов не было туды-сюды на лодках ездить. На сенокос заедут – како уш тут горки на Петров день? Робить уш тут надо было. На сенокоси даже в Петров день с обеда робили». Ранее в Петров день горку водили лишь в том случае, если сенокос переносили на более позднее время, обычно по причине позднего вскрытия реки и, в связи с этим, позднего созревания трав. По воспоминаниям участниц хороводов, в круг становились преимущественно девушки-подростки и молодёжь, тогда как взрослые чаще «сидели компаньями» и, несмотря на праздничный день, горка проходила значительно скромнее: «Которы за реку уедут на Петров день, те уш обратно не приезжали и там (за рекой — Т.Д.) горку не водили. В Петров день больше незамужны! девки ходили в хороводи, и уш баски наряды на горку не одевали, в простом шелковьи ходили. А нынь наоборот, в Петров день пушшэ горку водят, потому что все к Петрову дню больше приезжают. Тут и петровшшына и горка».
На традиционную жизнь устьцилёмов негативно повлияло и объединение в 1961-1964 годах Усть-Цилёмского и Ижемского районов в единый укрупненный Ижмо-Цилёмский р-н с центром в с. Усть-Цильма. В этот период ужесточились гонения на всё традиционное: запрещались религиозные службы, ношение народной одежды, проведение горочных гуляний – всё рассматривали как «пережиток прошлого», «вековую отсталость». В местах проведения «горочных» хороводов администрация села организовывала «смотры» сельского духового оркестра, заглушавшего пение участников праздника. Несмотря на чинившиеся препятствия, жители сёл и деревень по традиции собирались водить хороводы. О значении горки в жизни устьцилёмов свидетельствует рассказ Марфы Николаевны Тирановой – известного в Усть-Цилёмском районе знатока песен, заводилы горок: «У нас отец-родитель под старость слеповал и больше всё на печи лежал. Лежит, песни тихонечко попеват. Мария-сестра сказывала, пришла, спрашиват: “Тата чё делашь?” — “Горку вожу”. Старой был, а всё про горку думал. Родители много песен знали, мы с сестрой где неме знам (значительно меньше — Т.Д.)». В ХХ веке горка в с. Усть-Цильма не проводилась только в 1941 году, но уже в последующие годы она была возобновлена.
В пижемских селениях – центре печорского староверия – хороводные гулянья находились под запретом с конца 1940-х до конца 1970-х годов: «Горку тогда нельзя водить было. В войну еще горку водили, а в конце сороковых годов уже нет. В 1977 году гоненья на горку ещё были и я как директор дома культуры согласовал с парткомом и решили провести праздник “Проводы белых ночей”. Обошли всех бабушек, всех людей, кто умеет петь, и решили в воскресенье, накануне Ивана дня – не в Иван день – горку провести. Иван день старинный праздник, нельзя было в эти годы горку водить. Тут и соревнования приобщили, флаги развешали. Я переживал за это дело, что говорить… Люди пришли, всё провели. В клубе-то горку водили – это как сценическое было и не запрещали, а на улице не разрешалось. И вот с того года стали каждый год горку водить».
В кризисный для усть-цилёмской горочной традиции период 1960-1970-е годы и состоялось открытие уникального Усть-Цилёмского края кинодокументалистами. Мастера кино приехали в Усть-Цильму в 1971 году, а затем в августе 1976 года. Их работа осуществлялась через администрацию района. Поэтому на съёмках фильма в 1976 году хороводы водили «по заказу», вне их естественной приуроченности к традиционному времени проведения. Между тем, жители районного центра с воодушевлением приняли приглашение к участию в съёмках и в течение трёх дней выходили водить хороводы. Вот как передал своё отношение к происходившему Ананий Иванович Булыгин – известный в Усть-Цилёмском районе исполнитель народных песен, участник хороводов, обращаясь к своим детям в дарственной надписи на фотографии тех дней: «Съёмки фильма “На горке, да на пригорке”. Пойте, наши любимые деточки. Передавайте нашу славу о великой Усть-Цильме, матушке Печоре. Пусть не гаснут песни нашего края». Тогда никто не мог предугадать, что фильм станет спасительным для горки. Обозначившийся интерес к ней со стороны документалистов, художников, ученых и всех любителей старины привёл к снятию запрета на проведение праздника. Более того, желание «попасть в кадр» явилось одним из стимулов для усть-цилёмских молодёжи и детей к участию в горке. И, как вспоминают хранители традиций, «по Усть-Цильме снова зазвенели песни».
В 1980-е годы горка значительно «помолодела», а в 1992 году в с. Усть-Цильма впервые была проведена детская горка, ставшая новым явлением праздничной культуры устьцилёмов. Участниками первой горки были дети 10-12 лет, в последующие годы – от 5 до 15 лет. С 2005 года в с. Усть-Цильма начали возрождать проведение хороводов в Николин день. С недавних пор детская горка устраивается и 1 июня – в день защиты детей. Дети стали активными участниками праздничных хороводов: под началом педагогов они разыгрывают фигуры горки в Иванов и Петров дни днём, а вечером включаются во взрослый хоровод.
В настоящее время жители Пижмы, Цильмы, Усть-Цильмы в Иванов день водят хороводы в местах/центрах проживания, а в Петров день, ставший с 1990-х годов главным хороводным днём, участники обряда съезжаются в с. Усть-Цильму, где разыгрывают завершающий вселенский хоровод. Изменились и места их проведения: в районном центре хороводы разыгрывают на стадионе – в центре села, в других деревнях – на открытых площадках.
К ХХI веку жизнедеятельность на селе кардинально изменилась: немногие семьи занимаются сельским хозяйством, знакомство молодёжи и одобрение пар происходят вне обрядовых ритуалов, иным содержанием наполнены и горочные хороводы, которые, несмотря на перемены, все-таки продолжают выполнять важнейшую функцию – сплочения этнического коллектива и утверждение его культурных ценностей. Поэтому горка включена в современную культурную среду и занимает в ней главное место. С 2004 года ежегодно проводится республиканский праздник «Усть-Цилёмская горка», который длится с 7 по 12 июля (н. ст.). Праздник открывается и завершается горочными хороводами, но программа праздничных мероприятий охватывает и светские представления. Летние празднования, объединенные в названии «Усть-Цилёмская горка», являются важнейшим фактором консолидации и самоидентификации русских, проживающих более четырех столетий в условиях иноэтничного окружения и сохраняющие русскую культуру. И именно вековые традиции становятся символом единства людей, коллективные празднования служат фундаментом в транслировании исторического опыта и народных знаний.
Современная усть-цилёмская молодёжь полагает, что у горки есть будущее, и, несмотря на стремительные перемены на селе, праздник занимает в жизни сельчан значительное место. На местах жители сел и деревень живут его ожиданием, т.к. праздник – это и радость встреч с земляками, выехавшими за пределы Усть-Цилёмского района. «Живём от горки до горки», – говорят жители деревень. К празднику готовятся, обновляют наряды. Ныне горка в Петров день считается главной: в ночь с 11 на 12 июля устьцилёмы по традиции варят кашу петровщину, а вечером водят хороводы. Современный праздник вызывает чувство гордости у молодёжи за родной край, а парни и девушки становятся активными участниками гулянья.
Главное значение современной горки – это то, что праздник сплачивает семьи, роды и всех устьцилёмов. В едином хороводе познается невероятный дух и сила коллектива, родной земли, понимание того, что только сообща можно преодолевать трудности. И, как говорят устьцилёмы: «Купно молились, купно трудились, купно радовались», – в этом и заключена великая сила староверов, сумевших выжить в сложные времена изгнаний и притеснений. В ХХI веке горка по-прежнему рассматривается как священный обряд, о чем свидетельствует факт её проведения даже в день траура, объявленного президентом России 12 июля 2011 года по случаю гибели людей с затонувшего теплохода «Булгария»: «Когда президент объявил траур, мы призадумались, а как быть с горкой, но администрация поддержала народ и хороводы водили, только кадрили не плясали. Горка для нас всё, люди специально приехали. У меня на календаре настенном два дня красным карандашом обведёны – Иван и Петров дни, когда горку водим. У меня внучка горочны песни поёт и в хороводе ходит, внук в красной рубахе да в писанных чулках возле хороводов пока в коляске ездит»: «Мы специально на горку приезжаем, даже кто и не участвует, только смотрит и то заряжается какой-то энергией. Мы горку даже в Ухте проводим с 2003 года, в Печору ездили горку водить, пусть все знают. Так и живём – от горки до горки, горка силу даёт».
Петровщина
Завершающим обрядом летнего солнцеворота была петровщина, справляемая в ночь с 11 на 12 июля (н. ст.). В народном календаре Петров день являлся кульминационным в обозначении полного расцвета природных сил, завершавший летнее солнцестояние, и
был датой смены времен года. На Севере начиналось «красное лето», связывавшееся, прежде всего, с сенокосной страдой, уборкой зерновых культур. К этому дню в усть-цилёмских деревнях завершались молодёжные гулянья и начинались трудовые будни.
В прошлом к Петрову дню усть-цилёмские крестьяне семьями выезжали за реку на сенокосные становища, многие из которых были названы от имен людей, расчищавших луга от леса: Ипатиха, Васина изба, Демешкино, Евдокимов нос и другие. В прошлом места таких временных поселений имели и другое название – огнище, в котором отражено глубокое понимание времени и его предназначения. Крестьяне жили ожиданием сенокосной поры и верой на получение доброго урожая. Старики говорили: летний день зиму кормит. Не случайным является и название временного поселения, связывавшегося с представлением о свете, тепле, солнце, достатке, которые должны были укрепить крестьянина в его хозяйственных, семейных делах на год. Объясняя термин «огнище», многие информанты добавляли: «Раньше народ попусту не говорил», всё к чему прикасался крестьянин, имело созидательную силу.
В ночь с 11 на 12 июля повсеместно в местах временных поселений жгли костры, варили кашу, ритуальным поеданием её ознаменовывали начало трудовых сенокосных будней. Как и повсеместно, жжение костров связывались с архаическими представлениями об очищении земли. Конфессиональная специфика предопределила сценарий проведения обычая: устьцилёмы проявляли воздержанность и не прыгали через костры, как это было принято в других местностях, где жило мирское население; молодёжь не устраивала бесчинства. В печорских селениях праздник встречали семьями, рассаживались вокруг костров, трапезничали, пели песни, вспоминали славных представителей родов, их дела. Транслирование семейной памяти было делом чрезвычайной важности. На трудовых примерах строилось воспитание детей. В этом обычае проявлялась консолидация семьи, и утверждался общий настрой на работу.
В полной мере расцвет природных сил олицетворяла молодёжь, неизрасходованная энергия которой, по мнению крестьянства, обладала созидательной силой, распространявшейся на весь сельский мир. Поэтому именно молодёжи отводилась главная роль в праздновании кануна Петрова дня: у костров водили игрища – плясовые кружания под исполнение песен, шутили. Словом, создавалась радушная атмосфера празднования, которая и должна была повлиять на благополучный исход уборочных работ и образование брачных пар. Встретив солнце, поутру молодёжь расходилась, и с Петрова дня наступали трудовые будни.
В годы советского строительства в этот обычай были привнесены некоторые изменения, связывавшиеся с местом его проведения. Жизнь на селе изменилась, отпала надобность в семейном переселении на луга, но обычай варить петровщину остался. В 1960-80-е годы устьцилёмы на моторных лодках выезжали за реку вечером, а под утро возвращались обратно. Ныне петровщину варят вблизи поселений. Несмотря на изменения, главное в традиции – это объединение людей, утверждение в родстве, желании сохранять этническую и конфессиональную общность, вековые обряды.
Летние усть-цилёмские празднования вызывают восхищения у приезжих гостей, ежегодно съезжающихся к дням проведения горки и петровщины. Кто-то из них дружелюбно называет петровщину «несанкционированным пикником», удивляясь масштабности этого уникального обычая. Как и прежде, устьцилёмы семьями выходят на берег и варят кашу. Сохранить традиции жителям Усть-Цилёмского района помогли вера и опыт поколений.
Летние уборочные работы
Сенокосная пора была чрезвычайно трудоёмким процессом, продолжительность рабочего дня иногда определялась 10-12 часами с непродолжительными перерывами на обед и отдых: рано утром по росе косили, днём и до заката солнца занимались стогованием. По этому поводу говорили: «на лето человека из дерева делали», выражение передаёт недюжинную выносливость, выдержку людей. Но, несмотря на суровый трудовой ритм жизни, молодёжь на огнище устраивала забавы: жгли костёр в месте приготовления пищи (поварня), вокруг которого девушки пели песни, водили игрища: «Придём уж поздно, до закатного робили. Будто таки все опристанем. Поедим, балайка заиграла и вся усталь прошла. Тут поём, ихам, бабы, мужики тоже радуцце и будто силы у всех прибывают, сидим у костра. А утром как ни в чём не бывало на работу».
Особо ожидаемым случаем сенокосных развлечений молодёжи была езда по огнищам: молодёжь парами верхом на лошади объезжали сенокосные становища, где принимала угощение от хозяев и веселилась. Основанием к таким выездам был первый поставленный стог сена, о котором следовало сообщить округе / «всему белому свету»: «Мы-то уже ездили в совецко время, когда бригадами робили, в 50-е годы. Зарод смечут мужики и кто постаре скажот, можете по огнишшам ехать. Мы радёхоньки. А до зарода не ездили. Едём песни поём, ребята свистят, только лес шумит да везде отдават – едем радуемсе. Едем парень с девкой: парнень промежног, девка зади на бочку сидит, хто с кем дружились, так и садились. Приедем спрашивам есь ле у вас зарод. Ране ведь так, кто первой поставят, те и первьми ездили. Бывало, первыми к нам приезжали. Первой зарод – ето беда больша радось была, говорили к Ивану первой зарод – благополучие на год. После работы уж в ночь поедем в соседнюю бригаду, там нас чаем поят, на балайке играм, песни поём, кадрели пляшом. Беда весело жили. Приедем обратно, 3-4 часа поспим и на работу. Мужики да бабы нас спрашивают: есь ле у кого зароды, так и жили».
Лето было периодом, когда молодёжи позволялось открыто проявлять свои чувства друг к другу, и сенокосная пора, объединявшая всех жителей деревни, была одним из таких мест. И это не порицалось, наоборот, взрослые с радостью приветствовали «баловство» парней и девушек, отмечая новые пары, а к зиме ожидали свадьбы: «Я парню понравилась и он так меня в охапку берёт и перевёртыват меня, катат по земли. Пошшо-то все так баловались, ничего худого не было. Ребята своих девушек возили по огнищам: парень в седле, а девушка за ним на бочку. И если девушке парень тоже нравился, то она к другому ездоку уже не садилась. Так и присматривались друг дружки». Девушки пели:
Не одна на сенокосе,
Не одна на полосе.
Не одна я завлекаю,
Завлекают девки все.
Ещё одной особенностью поведения молодёжи были шутки, порой неоднозначные. Из рассказов наиболее часто называются банные истории: «Когды ле на сенокоси робили, Алексаниха девкам подсказыват, вечером ребята пойдут в байну, подте сделайте им веник, да крапиву положте, пусть ребетишки по веретии полетают. Стали парицце и кто посмеле, те выбегают из байны – только мошня легаецце, скорёхонько в реку. Ругаюцце – это Алексаниха стара ховра девок научила. И никто не обижалсе, всё понимали шутки, потом смеюцце. Она выдумщица была, всегда какую-нибудь придумку девкам бросит». Взрослые женщины поучали девушек и являлись их защитницами. Важно то, что парни ожидали от девушек подобных игровых «настроений» и, если те не проявляли интереса, то выражали недовольство их пассивностью.
Период сенокосных работ был особо ожидаемым молодёжью, поскольку к их началу уже были сформированы брачные пары, открыто демонстрировавшие свою взаимную симпатию «на людях», и совместное времяпровождение в большей степени было подчинено их интересам. Как вспоминают информанты, на сенокосе досуг молодёжи не ограничивали, жизненной энергии которой хватало и на труд, и на развлечения.
§ 2. Осенне-зимний период
Посиделки
Поздней осенью молодёжные игры возобновлялись, и главным досугом этого периода были посиделки – посидки (вар.: вечёрки, вечеринки, сидения), которые в деревнях устраивали на праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября н. ст.). Вечеринки являлись продолжением весенне-летнего хоровода и одновременно завершением годового цикла молодёжных обрядовых развлечений, бывало, их организовывали и раньше: «Когда начинались тёмные вечера начинали сидеть и за 12 дней до Рождества прекращали сидеть. Потом о Рожесьви сидели полторы недели до Крещенья, а потом уж посидок не было. С шести вечера до 12 часов ночи сидели, потом расходились», «В сентябре осенью рожь выжнут и молодёжь собирается на посидки, но эти посидки были, чтобы повеселить допризывников. Потом молотить станут, тут уж не сидят и потом с Покрова опеть сидеть будут». В канун их начала, который чаще приурочивали к празднику Покрова, матери учили девушек молиться Богородице, чтобы к ним засылали сватов: «Матери нам наказывали в Покров: молитесь, Пресвята Богородица, покрой мою голову красным кокошником, золотым побойником». Итогом посиделок была свадьба определившихся пар: «На играх девок выбирают, а на посидках побеждают» – говорится в усть-цилёмском присловье. Согласно выводу Т.А. Бернштам, посиделочная изба становилась символической «семейной» избой в деревне, где парни («мужья») встречались с девушками («жёнами»). У устьцилёмов имитация «семейной» жизни происходила на трёх видах посиделок: простых, смешанных и святочных. На Пижме посиделки обобщенно назывались тройные. Их разделение происходило по признаку социовозрастного состава участников.
1. С Покрова (14.10. н. ст.) до начала Филиппова (Рождественского) поста организовывались простые посиделки с участием только холостой молодёжи и подростков, носившие р а б о ч е — и г р о в о й характер.
2. С началом Филиппова поста до Спиридонова дня (25.12. н. ст.) – смешанные посиделки, на которых к молодёжи присоединялись молодые ж е н а т ы е п а р ы и в д о в ы. Посиделки проходили скромно, за работой, временами прерывавшейся играми в фанты.
3. На святочные посиделки (7.01.–18.01. н. ст.) приходили все члены общины, за исключением младенцев и древних немощных стариков, и вечеринки характеризовались безудержным весельем, молодецким озорством. Парни и девушки, пришедшие к брачному согласию, участвовали на них уже в качестве оглашенных женихов и невест: сельские жители относились к ним с уважением, обращаясь к ним по имени-отчеству; в разговоре прислушивались к их мнению. Это было знаком признания общиной брачной пары. Матери холостых парней приходили на посиделки со своей целью: приглядывали сыновьям невест – высматривали девок, – и с Богоявления засылали сватов. Критерием выбора, кроме деловых и нравственных качеств, был наряд. Богатый костюм свидетельствовал о достатке девушки и богатом приданом.
Принцип организации посиделок был поселенческий: собиралась молодёжь и жители отдельной деревни. В Усть-Цильме посиделки собирались «по концам»: нижноконы, верхоконы и центр – грязнивица (низкое место, в половодье потопляемое). Иногда по воскресеньям парни ездили в соседние деревни/концы смотреть посидку, что нередко заканчивалось дракой. Парни не позволяли чужакам заглядываться на их девчат: «Иногод так эть раздеруцце, оглобли ти все чисто выречкают»; «Робята выйдут на улицу, коней выпрягут, ды отпустят их, щэбы гости домой пешком шли. Это как щэбы не ездили к им». В 1950-е гг. подобные визиты носили уже миролюбивый характер, и иногда посидки объединялись по обоюдному согласию молодёжи соседних деревень.
Сидели во все дни недели, за исключением субботы и всех предпраздничных дней. Первую посиделку чаще устраивали на Покров, считавшийся праздником девушек брачного возраста; на Печоре бытовало общеизвестное присловье – «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня младу женишком», и гаданию на сон о ряженом в канун Покрова придавалось не меньшее значение, чем святочным.
Посиделку устраивали в избе одинокой, но ещё не старой женщины, вдовы. Выбор определялся её статусом: одиночество, связывавшееся с незавершённостью (нечет) и, вместе с тем, состояние ритуальной чистоты (15 лет вдовства – чистое девство) – факторы, которые должны были способствовать благополучному исходу молодёжных собраний, формированию брачных пар. С другой стороны, ущербность вдовьего положения требовала христианского понимания поддержки (жертвы), словом, благо надо было заслужить: парни помогали хозяйке по хозяйству: кололи и складывали дрова, выполняли и другие работы; девушки сообща наводили чистоту — мыли стены и лавки, скоблили пол. За предоставление помещения также оставляли деньги, собранные на вечёрке; девушки приносили хозяйке и её детям выпечку.
Стимулированием девушек к устроению посиделок являлось общественное мнение, отсчитывавшее им года, метафора которых – лавки (подробнее об этом см.: 3 гл.). Критерием состоятельности посиделки были скатерти и керосиновые лампы: «Уж если на посидки была десятилинейна карасинка (лампа – Т. Д.), то уж беда богата была посидка». Размещение на посиделке определялось «тремя лавками»: главная лавка, расположенная в центре избы – в простенке (между окон), приближённом к красному углу, имевшем и другое название честно место, предназначалась девушкам-невестам – организаторам и запевалам; на простой посиделке девочки-подростки вдовы и разведённые женщины располагались на лавке слева от входа, соединявшие красный угол с входным; на смешанной посиделке лавки справа от входа предназначались замужним женщинам; парни находились у порога, здесь же располагались зрители «Рассаживались на посидках по порядку: в верхнем простенке сидела главная запевала, бойкая девушка, голосистая; в среднем простенке – вторая запевала, в нижнем простенке по другой стены – третья запевала, а дальше на задней лавке сидели молоды девушки, которы не часто ходили, те не запевали, только подпевать могли. На поперечине от русской печки до передней лавки сидели молодые женщины. Молодые парни и мужики с балалайками приходили, с гармошкой, они садились на кровать у порога, на поперечину, если место есть и тут же други люди, кто приходили посидку посмотреть. Ране веть всё ходили. В центре избы стол стоит, на нём три лампы, на стол же бросали деньги».

Посиделка в с. Усть-Цильма. 1982. Из семейного альбома К. А. Поздеевой.
На осенних посиделках, «сочетавших труд и игру в избе, происходила «репетиция» усвоенных девушками космоприродных знаний на социальном языке предбрачных отношений. Семантика прядения на молодёжных посиделках рассмотрена в работах Т.А. Бернштам, игровое поведение девушек «символизировало з а т я н у в ш у ю с я фазу достижения пика зрелости в термине сидение». Для них посиделка начиналась с распевания под прядение, во время которого парни играли у порога, например, в игру «в шапку». При этом девушке, вытягивающей длинную нить, парни выкрикивали: «Далеко замуж собралась уходить». Для каждой из них прядение прекращалось после припевания её парню. Т.С. Канева отмечает, что в усть-цилёмских припевках «нет так называемых “поцелуйных” формул, содержащих приглашение к поцелую или упоминание о нем», что вероятно в какой- то мере связывалось со строгостью старообрядческой идеологии. Особенностью усть-цилёмского репертуара является и включение в него песен величального цикла, являвшееся своего рода гарантией обязательного величания каждой супружеской пары в послесвадебный период, поскольку персональное опевание не было приурочено в местной традиции к свадебному обряду.
Припевки следует рассматривать и как повод для общественной оценки той или иной девушки. Несмотря на то, что формально они являлись хозяйками вечеринки, парни строго следили за тем, которую из девушек первой припевали к парню. Традиционно начинали с девушки, сидящей в простенке на дальней лавке, являвшейся самой старшей из присутствующих или голосистой. Бывало, что девушка с боковой лавки просила припеть её первой, в этом случае парни-женихи открыто выражали своё несогласие и наказывали её: выходили на улицу и стучали палкой в простенок до тех пор, пока девушка оставалась в доме. По правилу в этот вечер ей следовало покинуть посиделку. В традиционном обществе взаимоотношения молодёжи строились по их внутреннему распорядку и определялись нормой, критерий которой обуславливался возрастным аспектом «молодой – старый» или социальным – «умелый – новичок». Превышать полномочия молодой и неопытной девушке не позволялось, её вызывающее поведение не одобрялось парнями, регулировавшими порядок в молодёжной группе. Народное мировоззрение сформировало стереотипы поведения парней и девушек: первые в общении подчёркивали силу, выносливость, щегольство, находчивость, позднее игру на музыкальном инструменте (гармошка, балалайка); девушки – скромность, умение веселиться, исполнительское мастерство и знание песенного репертуара, демонстрирование дорогих нарядов. Исходя из этого, лишь в исключительных случаях молодая девушка могла претендовать на лидерство в группе.
В других случаях припетый парень должен был с поклоном поблагодарить окружающих словами: «Спасибо за припевку да за красну девку», одарить исполнительниц деньгами, оставляя их на столе; поцеловать девушку, после чего она убирала прялку в сторону, а он садился с ней рядом. Для припевок девушки заранее обговаривали для себя парня. Иногда пару подсказывала запевалам и хозяйка дома, по мнению которой девушка и парень подходили друг к другу, и случалось, что дело завершалось свадьбой. Припевание молодёжи по обрядовым функциям уместно сравнить со сватовством. Согласно игровому правилу, в течение вечера разрешалось припеть участника только один раз. Припетая пара выходила за дверь и, если симпатия была взаимной, девушка позволяла себя поцеловать, а для парня – это было знаком к продолжению отношений.
Любимым и ожидаемым видом развлечений на вечеринке было исполнение девушками частушек-перебранок. Участвовали в таких поединках только уверенные в себе девицы, стремившиеся проявить себя и вызвать интерес у противоположного пола. По воспоминаниям рассказчиц, иногда вечер был полностью посвящён таким поединкам, которые парни всегда ожидали и следили с интересом за исполнительницами. Побеждала та, в репертуаре которой частушек было больше. Бывало такие «разборки» устраивали между собой соперницы – супостатки, желая в глазах любимого унизить друг дружку и случалось, что по итогам таких поединков парень совершал окончательный выбор. Вот типичный диалог в частушках:
1.Отбивай, подруга, дролю Всё равно не завладеть.
На колени к тебе сядет,
На меня будет глядеть.
2. Я любила, ты отбила И люби облюбочки.
И целуй после меня Целованные губочки.
3. Ты любила, я отбила И люблю облюбочки.
До чего же хороши Целованные губочки.
4. Я любила, ты отбила Я не буду ревновать.
Всё равно тебе, подруга,
В сельсовете не бывать.
5. Я любила, ты отбила,
Я не поперечила.
Ненадолго ты отбила,
Только на два вечера.
Переходом к игровой части вечера были загадки, в которых определяющим было эротическое отражение предметов, в частности, прялки. Например:
С локоть мохнатого,
С локоть голого,
С локоть в дыру вошло (Прялка и куделя).
При этом парня, отгадавшего загадку, его девушка могла «уколоть» веретеном. Ежегодно загадки обновлялись, их сочинителями обычно являлись взрослые женщины.
Брачная тема была определяющей в песенноигровом репертуаре в с е х посиделок. На простых посиделках допускалась определенная свобода в общении, отразившаяся в так называемых «поцелуйных» играх, в процессе которых происходило определение пар. В игре «По разуму» водящий рассаживал парней на колени девушкам и спрашивал: «По разуму?» Если девушка отвечала отказом, то водящий интересовался: «Кого тебе надо?» и подводил приглянувшегося девушке парня. В игре «К душке ходить» водящий, иногда по предварительной договорённости, выводил приглянувшегося участника к девушке или парню, находящимися поочерёдно за дверью. На Пижме эта игра имела свои особенности: юноша подходил к двери, брался за душку – дверную ручку и перечислял приметы понравившейся ему девушки, а участники игры должны были опознать её и назвать имя. Верно названная девушка выходила к парню и, если симпатия была взаимной, парень мог её обнять и поцеловать, приговаривая: «Вот эта мне люба». Пара в дальнейшей игре уже не участвовала, к душке выходил следующий участник, и игра продолжалась. В ином случае парень садился на своё место, а девушка продолжала игру, вызывая приглянувшегося ей парня. Простые и святочные посиделки заканчивались игрищами, кружаниями, для участия в которых юноши приглашали девушек на танец под общеизвестную песню, начинавшуюся словами:
Уж ты прелица-кокорица моя,
С горя выброшу на улицу тебя.
Буду прести, по-прядывати
По вечорачкам похаживати…
При этом многие мужчины, в прошлом участвовавшие на вечерках, рассказывая о досуге, иронично изменяли слова выше приведенной песни: например, «взял бы выгребнул на улицу тебя», что связывается с их представлениями о прядении на посиделке как неуместном. В целом репертуар игрищных песен был значительным и сохранялся еще в 1950-е годы. Танцы были желанной и «любимой» частью посидки, иногда именно в движении происходило определение пар: «Девкам надо было потанцевать, повиньгаться. С тем потанцует, с другим и, глядишь, жених сыщется. Если парень в танце тяжёлой, на его уже гледеть не станешь. А кто легкий на ногу, с кем ловко танцевать, уже на того и засматриваешься. Taк преш было». Но, несмотря на то, симпатию или нерасположение вызывал парень девушке, отказывать в танце, было не принято. В ритуальном общении женихи нередко выражали возмущение своенравным поведением девушки-невесты: за отказ следовало публичное наказание, например, обиженный парень мог подрезать у отказчицы ленту или косу, примером является случай, произошедший в середине 1950-х годов: «Когды-ле на посидке меня все Кондратий Конихин пригласить танцевать хотел, а я ему отказывала, дэк зял ды косу мою отрезал прямо на посидки. Дивно и отрезал, с четверь. Мне так уш не ланно было. Я певунья была и танцевать очень любила. Отрезал, бат думал, что на поситку ходить не стану, я всё равно ходила, а потом коса отросла. <…> Девки и ребята нодо мной не смеялись». Для девушки-невесты укорочение косы было достаточно суровым наказанием, которое на определённый период времени принижало её красоту. Подобное отношение к строптивым невестам встречалось повсеместно, например, у русских Заонежья парни иногда сбивали чрезмерную спесь девушки-невесты: предварительно договаривались и в течение вечера не приглашали её на танец.
В период Филиппова поста посиделки носили исключительно р а б о ч и й характер: на них не пели и не плясали. В этот период главным образом девушки демонстрировали свои деловые навыки. О значении деловитости, мастерстве в рукоделии – готовности к браку свидетельствует такая поговорка: «Замужье не заречье, сумеешь шить косо подоплечье». Женщины рассказывали молодежи бывальщины, сказки, различные истории, случавшиеся с их односельчанами; поучительные тексты с образами «прях – непрях» и на другие темы:
1. «Сидят на завалины бабы, бают. Одна говорит:
«У меня дочи така роботящща, така работяща (быстро произносит): тридни – три нитки, пять дён – простенёк. А молодка дэк та уж ленивовата (тянет слова): как день – так и простень, как день так и простень». При этом девушке, не желавшей прясть добавляли: «На бабенкину дочерь-ту не находи (пример не бери — Т. Д.)».
2. «Молоды женились, жених-om из богатой семьи, а у невесты-то ничего не было. Да и сразу молодка с соседями ишшэ разругалась. Ей и говорят: “Чейно с соседями-то ссорисе?”. А молодка отвечат: «Насеру я на соседей-то”. Время идёт, молодых стали в гости звать. Молодой богатой, дэк живой рукой наредилсэ, а невеста– бедна. Побежала она к людям, к соседям, а те и не дали. Вот и насрала! Недаром говорят: не по чё, не по чё, да за камнем придёшь».
В 1920-е годы значение «обрядового прядения» было утрачено и оно связывалось исключительно с экономическими интересами семьи: «печорское вязание» пользовалось спросом на Русском Севере и являлось основным видом товаров, вывозимых на зимние ярмарки в Пинегу, Мезень и Архангельск. Хотя девушки-невесты в вечернее время и имели право на свободную жизнь, многие родители все же укоряли их за впустую потраченное время и отпускали дочерей на вечеринки с условием – с работой: вязанием, прядением. По рассказам информантов, девушки хитрили и обычно отчитывались матерям работой, выполненной ранее: «Иногод придём с посидки, ничё не сделам – проиграм дэк, матери зачнут нас ругать. Скажет шары* ти ширила, сидела ниче не навязала. Опеть омманывали: унесем готову головку** ле исподку***, а потом показывам, будто на посидке связали. Бывало, ищо**** и не отпускали како ле время».
* Глаза.
** Носок.
*** Рукавицу.
**** Что.
Присутствовавшие на вечёрках замужние женщины всегда подмечали и выделяли трудолюбивых и вместе с тем весёлых, голосистых девушек, а затем обсуждали их в своём кругу – так зарождалась о девушках «слава», как об умелых, сметливых, работящих невестах. Девушки-невесты заметно выделялись среди прочих, матери выряжали дочерей в лучшую одежду с использованием большого набора украшений. В этот период родители стремились наряднее одевать своих дочерей, с тем, чтобы их заметили и засылали сватов. С.В. Максимов даёт следующее описание наряда девушек середины XIX века:
«Девушки выпускают из-под платка, вышитого золотом, косу с гайтаном по спине; по праздникам вместо гайтана вплетают яркие ленты. Сарафаны праздничные от подбородка до подола спереди обшиты пуговицами; колодки у башмаков на подошве проколочены гвоздями. При повойниках (кокошниках-сороках остроугольных) употребляют золотые подзатыльники. Вместо гайтана на кресте богатые девушки и жёнки по праздникам употребляют широкие серебряные цепи, переходящие по наследству из рода в род и тщательно хранимые. Лент в косы наплетают иногда аршин до десяти. Серебряные перстни и меховые шубейки с куньей, лисьей и беличьей опушкой ещё в моде».
Ближайшие родственники и соседи «славили» девушек, создавая им похвальную репутацию. Сложнее приходилось замкнутым, нерешительным девушкам, которые не отличались красотой, хорошим голосом, и их сравнивали, порой грубо: «Девка баска как назёмна***** доска». Таких меньше приглашали танцевать, а в целом говорили как о неживых, и у них было меньше шансов выйти замуж по любви. Матери женихов всегда прислушивались, что говорили односельчане о той или иной девушке; чаще всего именно общественное мнение являлось определяющим в выборе невесты. Замечу, что если родителям женихов и их крестным было принято расхваливать сына/крестника в кругу односельчан, то матерям хвалить своих дочерей не полагалось, считалось нескромно.
***** Навозная.
На святках обязательными участниками посиделок были ряженые (машкорованы), которые по рассказу Марфы Николаевны Тирановой – участницы вечеринок, облачались в нарядную женскую одежду: «Машкорованые почти на каждую посидку приходили. Пять-шесть молодых пар нарядно оденутся в баски рукава, сарафан, коротеньку, в побойниках. Ребята в таку же одежду наредятся, в сарафаны. Лица марлей закроют ле тюлем, сверху рипсовым платом закинутся. Заходят на посидку, верхный платок скидывают, а марлю не открывают. Лица не открывали. Ряженые приходят повеселить посидочников, поплясать,.. кадриль, барыню тут… ходили те, кто танцы знали и плясать умели, други не ходили. Ходили с гармонью, а раньше с балалайкой. Говорили не своима голосами, изменяли, чтобы не узнали». Традиция переодевания парней в нарядную женскую одежду сохранялась до конца 1950-х гг. и являлась своеобразным рудиментом обрядовых ряжений парней, связанных с выбором невест, подробнее об этом будет сказано далее.
С Богоявления Господня пары, пришедшие к брачному согласию, начинали подготовку к свадьбе, а холостая молодёжь выходила на новый круг игры.
Молодёжные забавы от Спиридона-солнцеворота до Рождества Христова
Период нового солнечно-годового цикла со Спиридонова дня (25.12. н.ст.) до Рождества Христова (07.01. н. ст.) считался переломным: солнце поворачивало на лето, поэтому этот астрономический рубеж был особым временем, когда «небо» могло напророчить будущее; сакрализация этого периода подчёркивалась самобытными ритуалами. Главным досугом молодёжи были гадания, которые получали своё продолжение в Рождество и до Крещения. Природный перелом отмечен и различием суточного времени проведения гаданий: до Рождества Христова гадали с вечера до полуночи, в «святые вечера» – после полуночи до рассвета. К Рождеству уже отмечалось первое увеличение светового дня, говорили: день увеличился на куриный шаг. Двухнедельный период связывался с образом курицы, которая наделялась брачно-эротической символикой (ср.: о девушке говорили – сидит как курица, т.е. естественно) и демоническими чертами; выступала в ритуалах маркером «переходных» состояний, процессов.
Все молодёжные игры и обряды были направлены на обновление жизни. Несмотря на то, что церковными правилами воспрещались волхования и старики-староверы всегда подчёркивали греховность таких забав, гадания на протяжении веков остаются одним из любимых и ожидаемых досуговых развлечений молодёжи. К гаданиям прибегали и некоторые старики, пытавшиеся узнать о перспективе жизни на год, но при этом всегда подчёркивали, что только одному Богу ведомо знать о будущем людей: «Наперёд никому не дано знать кроме Бога. Только он один всё обо всех знает. Когда-то людям было дано знать о себе наперёд, когда женятся, когда умрут… И как-то Господь решил спуститься на землю и посмотреть, как народ живёт. Идёт мимо одной усадьбы, видит: мужик скот весь забиват, дом разорят… Бог его и спрашиват: “Ты почто хозяйство своё разорят?” – “А как не разорять. Я завтра умру, не хочу, чтобы моё добро новому мужику моей жены досталось”. Бог подумал, подумал и решил, что надо отнять у людей знатьё жизни наперёд. Так люди и стали жить, ждать, что Бог пошлёт».
О достоверности гаданий информанты рассказывают очень убедительно, многие из них повествуют о личном опыте и исполнении таких предвестий: «Мне дедко сказывал, что у Степана был на свадьбы и там увидел девку, и узнал ей: вспомнил, что видел ей «в стакане», когда кудесил. И сосватал ей. Всё сбывалось гаданье. Тогда ведь чудилось, виделось», «Дедушко, когда уже украл свою жену, уже здесь, на Пижме жили, увидел её на повети с охапкой сена и вспомнил: когда гадал, то в кольце увидел её именно в такой позе и с сеном. Вот и решил, что Бог уже тогда показал ему жену и сам привёл к ней». На вопрос: почему сейчас ничего не сбывается, ответ даётся простой – веры не стало в людях: «Раньше народ набожной был, шипко Бога боялсе, молились, постовали и пугало, вёржилось. А нынь люди сами как беси стали, без веры живут, как шишки одеваются, чисты шишки. Уже и так жизнь-то видно, не надо и гадать, сами беса»; «Как живём, то и получим, гадай не гадай, а если не по-Божьи живём, то чего хорошего в жизни ждать? Раньше люди были добрее, милосерднее, Бога не гневили, вот и когда гадали – показывало. А сейчас всё в жизни стало с ног на голову».
Наибольший интерес к гаданиям проявляли девушки, участвовавшие практически во всех известных на Печоре видах гаданий; участие парней было минимальным, из рассказов информантов, немногие юноши испытывали к ним интерес. В большинстве деревень парни проявляли несерьезное отношение к гадающим девушкам, при случае пугали их, обнаруживали себя в самых непредсказуемых для них местах. И только в деревнях по рекам Цильме и Пижме участие парней в некоторых видах гаданий было искренним, они беспрекословно подчинялись желанию девушек и выполняли все необходимые рекомендации. Девушки же придавали гаданиям очень большое значение, верили в чудодейственную силу предсказаний и всегда с надеждой ожидали «информации» о желаемых изменениях в их судьбе.
Как и повсеместно, для гаданий выбирали преимущественно нежилые места, как наиболее подходящие случаю и ожиданиям. К числу таких мест относились овин, баня, чердаки, перекрестки дорог, река. Гадали и в жилых домах, но только в тех, где имелся рогатый скот. При этом добавляется, что когда в доме гадают, скот, как более чувствительный, принимает на себя негативное воздействие от потусторонних сил, «витающих» в хозяйстве, и «вздышет».
Атрибуты гаданий: стеклянная и деревянная посуда, металлический нож, иголка со сломанным ушном, шкура животного, обручальное кольцо, замок и ключ. В гаданиях использовали и животных: лошадь (непосредственно в гадании), прочий скот (слушали шорох в хлеве, являвшийся знаком к перемене в жизни).
К гаданиям следовало подготовиться: если гадание проходило в доме, то из комнаты выносили все металлические предметы кроме икон; надлежало снять нательный крест, а девушкам и украшения; расплести косы, развязать все узлы, имевшиеся в облачении – словом, максимально приблизиться к естественному, «природному состоянию». Если гадания проходили на перекрёстке дорог или реке, необходимо было использовать шкуру животного, семантика которой связывалась с благополучием. На неё необходимо было стать или сесть, изнутри очертить её ножом и в месте замыкания линии воткнуть его в снег: «Когдыле на веках сказывали, бывало: кожу постелили, шкуру скотску, саму ту кожу обвели, а хвост-то не обчертили. Сели. Заклелись: надо сказать леший, или как ле по-другому заклестись. Сидели, сидели, ждали откуда суженой будет, ле где судьба ей быть. Сидела слушалась, слушалась, после кудыле ей ташшит и ташшит. Открылась, а уш у самой проруби сидит. Маленько бы ишшэ и в прорубь бы заташшило. Вот веть хвост не обчертили».
Перед гаданием в доме следовало веником размести «мусор» в разные стороны: от калитки или от уличных дверей до стола или места, где предстояло гадать, пятясь назад. Входные двери оставляли приоткрытыми (это требование распространялось на все постройки). В доме «сидели в кольце» – так на Печоре называли подблюдные гадания: на стол или табурет ставили большую неглубокую тарелку, на которую через решето сеяли золу, ставили стакан с водой, в который опускали обручальное золотое кольцо. В д. Уег в доме гадали за печкой (запечка) – в хозяйственном углу: «Табуретку ставили за печку, на ей в стакани смотрели. Шшытали запечкой лучше виделось, там погреба были и из погреба шишко здынецце и покажот в кольци. У кажной девки в ногах лежит по девки. В ноги бросали трепицю, лопатинку. Потом, когда откудесят, трепицю сожгут. Котора гадат, закленёцце: “Шишко кути, мути, всю правду скажи. Суженой-ряженой пусть покажется”. Вода помутнет и, если покажется, то покажется. Когда всё закончат, то скажут: “Господи, благослови”» . Девушки-устьцилёмки стремились заполучить для гадания кольцо от пары, венчавшейся в церкви, поскольку полагали, гадание будет действительным (венчано кольцо). На Цильме в гаданиях с кольцом участвовали и парни, которые как сами «сидели в кольце», т.е. гадали, так и их участие использовалось девушками: поочередно парни «падали» к ногам девушек, загадывающих на женихов – такое гадание рассматривалось как наиболее достоверное. При этом среди присутствующих не должно было быть реальных брачных пар, их исключали из числа участников, т.к. результат мог быть обратным, и пара могла распасться. Гадания могли предвещать как положительные, так и отрицательные перемены в жизни.
I. Гадания сном.
1. Колодец закрывали на замок и очерчивали его ножом, который втыкали в точке замыкания круга. Ключ от замка клали под подушку со словами: «Суженый-ряженый, приди ключ взять да коня напоить».
2. Перед сном под подушку клали зеркало, расческу, мыло, полотенце, и, ложась спать, со словами «шишко наплети», загадывали: если приснится парень, кольцо или волосы, то суждено выйти замуж; струганные доски – суждено умереть.
II. Гадание жребием.
3. В бане из печки брали золу, просеивали через решето на снег и загадывали: если суждено выйти замуж за богатого, то пусть на снегу останется след от тобака*, за бедного – след босой ноги или от сапога.
4. «Воровали» нестиранные мужские штаны, которыми завязывали кобыле глаза, на лошадь садилась девушка. «Слепую» лошадь трижды на месте кружили и отпускали. В какую сторону лошадь направлялась, оттуда следовало ждать сватов.
5. Деревянную квашню надевали на голову девушке, трижды кружили на месте и отпускали. В тот двор, куда заходила гадающая, спрашивали имя неженатого мужчины, если таковой был – таким должно было быть имя суженого.
6. Роджественское гадание: ранним праздничным утром девушка закусывала первый сделанный (посаженный) и испеченный сочень, называвшийся в усть-цилемских деревнях Христовый, зажимала его в зубах, выбегала на улицу и бежала по деревне: имя первого встреченного парня указывало на имя суженого.
7. На перекрёстке дорог девушке платком завязывали глаза, кружили и в момент остановки она должна была снять с правой ноги валенок или пим и бросить в сторону, которая указывала направление её предполагаемого замужества.
8. Брали обручальное кольцо матери, клали его в подол сарафана с горстью мусора, собранного на дороге, и на перекрёстке загадывали о замужестве – лай собаки свидетельствовал о предполагаемом замужестве и указывал сторону, откуда следовало ожидать сватов.
9. На перекрёстке в полотуху клали обручальное кольцо, которое «пололи» и загадывали на суженого (который уже был на примете) или замужество: «Суженый-ряженый собачкой залай». Лай собаки указывал сторону предполагаемого замужества или подтверждал надежды на конкретного загаданного парня.
10. В полночь на перекрестке девушка просеивала через решето золу и загадывала о замужестве. Утром смотрела след предвещал перемену в жизни.
11. В бане на двери девушки развешивали пояса (участвовало нечетное число девушек) и оставляли на ночь, загадав: кому суждено выйти замуж, пусть у той конец пояса обвиснет.
12. Вязаные рукавицы бросали в сложенную поленницу, если исподка цеплялась за полено, то следовало ожидать замужества в текущем году.
13. В дымовое окно бани девушки по очереди просовывали руку и ожидали: если «погладит» руку в рукавице, то предстояло выйти замуж в богатый род; голой рукой – в бедный. «Не погладит» – предстояло ещё год оставаться в девичестве.
14. Перед сном под подушку клали лошадиную сбрую и звали за ней прийти. Сон должен был «сообщить» о женихе.
* Меховая обувь.
III. Гадание зрительным образом.
15. Девушка с зеркалом в руках садилась на порог, разделявший жилую и хозяйственную части дома, спиной к хлеву. Произносила: «Суженый-ряженый, загляни да покажись через левое плечо».
16. На блюде ставили стакан с водой, в который клали кольцо. Перед стаканом устанавливали зеркало и загадывали на суженого, который и должен был показаться в кольце.
IV. Гадание с помощью звуков.
17. Садились под хлевное окно, и каждая участница по очереди загадывала: если корова замычит, то муж будет драчливый (дерибавотый); если будет тихо, то муж достанется спокойный.
18. Садились под хлевное окно, (девушка, проживавшая в том доме/хозяйстве не участвовала) очерчивали место расположения ножом, и каждая участница по очереди загадывала: к замужеству пусть замычит корова или заблеет овца.
19. Иголку со сломанным ушком бросали в жёрнов какое имя «проскрипит» – таким будет имя мужа. Гадающая садилась под жёрнов.
20. На росстанях – перекрестках дорог стелили шкуру, на которую садилось нечетное количество девушек, и очерчивали шкуру в круг, нож втыкали в месте его замыкания. Сверху всех закрывали парусиной – большой занавеской, вывешиваемой в сенях. Гадальщицы загадывали на лай собаки или ожидали проявление других звуков. Приметами замужества были также звон колоколов, скрип саней; знамением смерти – строгание досок.
Вера в «чудодейственность» гаданий была очень сильной, о чём свидетельствуют многочисленные рассказы информантов, а также приводимые примеры результатов таких гаданий.
Любимым занятием ребят было озорство: закладывали поленницей двери домов, перекрывали на крыше печные трубы, производили беспорядок в хозяйственных дворах – все эти «шалости» они осуществляли с деревенскими жителями, которым были присущ негативные качества.
Святки
Тема Света в сакральном пространстве святок успешно раскрыта на русском материале в работе Л.А. Тульцевой, где показаны, проанализированы обряды и обычаи, направленные на обновление поколений. В устъ-цилёмской культуре также звучали величания (детям, молодёжи, взрослым), коляда, славление Христа – песнопения, призванные «гармонизировать биоприродную и человеческую картину жизни нового солнечно-годового цикла».
Одним из противоречий в культуре староверов были ряжения, которые по-разному рассматривались церковью и народом. Строгими церковными правилами подобные «бесчинства» строго запрещались, особенно облачение в одежду противоположного пола: «Да не будет утварь мужеска на жене, ни да облачится муж в ризу женску: яко мерзость есть от Гослодеви Богу твоему всяк творяй сия; <…> Никакому мужу ни одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственну, ни носити личин комических и сатирических». За нарушение церковного правила христиан следовало подвергнуть отлучению от соборного общения, а после покаяния ом должны были исполнять епитимьи. Но на практике всё было иначе – это были любимые народные забавы, которые признавались «отеческими», а значит, не подлежали забвению. Молодёжь следовала заветам отцов, и древняя традиция ряжений неуклонно соблюдалась.
Травестийные формы переряжевания были наиболее популярными. Облачались как в нарядную (добру), так и в изрядно изношенную (худу) одежду. Наибольший интерес вызывает ряжение парней в нарядную женскую одежду, связывавшееся с понятием «брака». Этот обычай практиковался до середины 1930-х годов и являлся одним из способов выбора невест. Для этого сельские женихи договаривались между собой, определяя день для подобного ряженья, и просили наряды у приглянувшихся им девушек, что на знаковом уровне для каждой из них было оповещением о намерении парня её невестить. Их поведение было наполнено достоинством: ходили в дневное время, соблюдая правила ношения праздничной одежды, главными из которых были неспешная величественная походка, высокое держание головы. Ряженые ходили по домам и исполняли величальные песни: коляду или виноградие, в котором величали хозяев. Окружающие старались определить принадлежность одежды и распознать в ней парня, чтобы впоследствии в сельском кругу обсудить предполагаемую пару. В благодарность за оказанную услугу в масленичную неделю парень приглашал девушку проехаться на лошади по селению и, если девушка соглашалась, то парень садился в санях слева от неё, что для односельчан служило знаком рождения брачной пары: «Парни брали у девок наряды: баски матерчаты платы, сарафаны, рукава, ходили по деревни, машкоровались, а потом приглашали в заговнё девок прокатицце на лошади. Гонели в баских лежанках, парень девку приглашат, то уж невестить ей будет. Молоды первого года женитьбы опеть так ездили: молодой муж садился на колени свой жены – это он как хвалил свою жену. А бабы и мужики стоят по бокам дороги, смотрят, песни поют, все в баской одежжы».
Религиозной традицией запрещалось переодевание в различных «героев», в особенности это касалось надевании масок (личин), что рассматривалось как глумление над празднованием Рождества Христова; поэтому устьцилёмы всегда лицо закрывали марлей. Не меньший интерес вызывали переряживания в меховую одежду – шубу или малицу, вывернутые наизнанку; в изрядно изношенной одежде (антиодежде), соединяли облачения зимнего и летнего сезонов, например, к изношенным рубахам пришивали рукава от зимнего сюртука; штаны состояли из штанины-портка и ватника. Парни рядились в старух и разыгрывали различные сцены: «роды ненки» (на ходу, прилюдно), «хождение с гробом», «лечение коня». Девушки чаше всего переодевались в нищих, шпанёнков. Из атрибутов использовали посох, старый чемодан, ларь, мешок. Как вспоминают участники ряжений, одежда и атрибуты «всегда были под рукой» (рядом), их хранили на чердаках исключительно для этого случая. В сценках высмеивали жизненные пороки (пьянство, алчность, грубость и др.), которые стремились изжить, для этого использовали старую одежду и обувь. Крестьяне всегда ожидали ряженых с радостью и готовились к их приходу. Считалось, что они «несли» благополучие в дом. Участников ряжений обязательно благодарили выпечкой. В равной степени ожидали ряженых и в нарядной одежде, поскольку их появление, прежде всего, свидетельствовало о зарождении новых брачных пар и связывалось с «обновлением поколений». Дорогая праздничная и меховая одежда являлась и символом благополучия, удачи, тогда как посредством изношенной одежды (лохмотья), высмеивались жизненные пороки (болезни), вероятно, осмеяние рассматривалось как один из способов их избавления.
На второй неделе празднований организовывали посиделки, сценарий проведения которых описан выше.
Масленица
Масленица относится к числу аграрных праздников, составлявших подвижную часть народного календаря, зависящих от даты Пасхи. В славянской культуре масленицу называют «праздником плоти, мигом её торжества». Главным символом праздника были блины, гощения, катания на лошадях и скатывания с горок. Т.А. Агапкина пишет: «С мифопоэтической точки зрения полнота жизненных проявлений не есть излишество само по себе, а залог будущего благополучия и способ обеспечения нормальной жизнедеятельности человека и его воспроизводства в течение последующего года. С другой стороны, карнавальная избыточность <…> отвечает представлению о масленичном периоде как о важнейшей границе года. И в этом контексте масленицу можно оценивать не как торжество новолетия, но и как последний праздник года уходящего, с характерным для него хаосом: разгулом нечистой силы и визитами предков, бесчинствами и безудержными гуляньями, обжорством и пьянством, эротическими выходками ряженых и сквернословием».
В течение всей масляной недели устьцилёмы ходили друг к другу в гости, делали переходы, т.е. каждый день устраивали гостьбу в разных семьях, а на Пижме такие переходы делали дважды в день, разделением являлась вечерняя обряда – уход за скотом: «Пижемцев называли седунами. В Рождество, Масленицу по неделям сидели, гостились. Немного выпьют и песни поют и поют – без конца. У одних посидят, потом обрядятся и к другим пойдут». Молодёжь во взрослых застольях не участвовала, собиралась особо: в первой половине дня парни и девушки «гоняли» на лошадях по селу. Парни запрягали лошадей в дорогие сбруи, украшенные медными пуговицами, в расписные дуги с колокольчиками и приглашали приглянувшихся им девушек прокатиться по деревне: «Заговнём парни катали девок в каретах, лежанках: если в санях сидело две пары, то парни садились на колени девкам, если одна – парень сидел рядом с девкой, справа от неё. Гоняли и первогоденны молодки с мужьями»; «В само заговньё гонели на лошадях: парни девок катали. Бывало и молоды* ездили. Девки голоушом в онных платах. Кто не гонел, тот смотрел: какой парень каку девку возит. Лошадь за лошадью… Девки давали робятам добру одежу машкоровацце и за то опеть парни девок приглашают и возят о заговни. А кто опеть и невесту возит свою. Я помню, ко мне Оська подъехал на кареты: Анна Ивановна, пожалуйста покатацце со мной. А я чё молода ишшэ была 14-15 годов, бат 15-ти то и не было да. Мне стьнно, я и не пошла – молода глупа была. Ныне так жалею. А сама така уш нарянна была: малица баска да репсовый плат. А пошла бы… Ведь никого он боле не пригласил. Меня хотел посадить, да на сани повалить, а там бат и про свадебно стал говорить. Нынь уж чё вспоминать».
* Молодожёны.
Традиция катания на лошадях поддерживалась и в Веденеев день (4.12. н. ст.), связывавшийся с уходом парней в армию. «Вот Веденеев день будет – это праздник такой Введение Пресвятой Богородицы, гонеют. Ребята призывались в армию служить, один раз в году тогды их забирали и уж тутока по Усть-Цильмы только звон стоит, чё делают на лошадях гонеют, свистят, девки песни поют, ихают». О подобных молодёжных гуляньях в 1960-х годах говорили словами А.С. Пушкина: «Домового ли хоронят, ведьму ль взамуж отдают», в выражении отражена безудержная кипучая энергия молодёжи. Вечером собирались поочерёдно в домах, устраивали игрища. К этому времени уже были отыграны свадьбы, и холостая молодёжь заходила на новый круг игры.
Ю.В. Гагариным составлено описание масленичного гулянья: «Масленица была самым весёлым, разгульным праздником в году. В Масленицу устраивали так называемый “поезд”: на двое саней устанавливали самую длинную лодку, на носу которой сидел человек, изображавший масленицу в вывернутой наизнанку шубе, шапке. Тут же в ступе толкли солому, на железной печке пекли блины и раздавали сидящим на ней. Пели песни, плясали под гармошку. “Поезд” проезжал по всей Усть-Цильме, делая остановки. Собиралось много зрителей, толпы подростков, детей, сопровождали его. Обряд встречи Масленицы напоминает подобный обряд в Сибири, где “госпожа Масленица” ехала на носу корабля, установленного тоже на санях». Чучело Масленицы в Усть-Цильме не изготавливали до 1990-х годов, в настоящее время нововведение утвердилось, и сжигание её является кульминацией современного торжества.
Масленица считалась празднеством молодых семейных пар и называлась «женатым» праздником. Для них строили ледяные горки, которые украшали ёлками, фонарями. С утра катались дети, а с обеда днём – молодёжь и семейные пары первого года совместной жизни. Молодица скатывалась с горы на прялке, иногда с мужем и этим демонстрировала счастливое замужество. Молодой «купал» жену в снегу, катал на лошадях. Воскресный день Масленицы был самым разгульным на селе, после которого начинался Великий пост.
Преемственность молодёжных традиций, большей частью сохранявшихся до 1960-70-х годов, бытование народного костюма, хороводного праздника горка определялись верой людей и опытом поколений. Почитание древних обрядов староверами, выводимых на уровень «закона», и ныне способствует возрождению традиций, которые наполняются уже иным содержанием. По справедливому замечанию Д.С. Лихачева, «творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему». Новыми значениями наполнены современные хороводы, пасхальные качели, но главное то, что традиции объединяют роды, семьи устьцилёмов, являются этническими и конфессиональными символами их культуры, что позволяет говорить о развитии праздничной культуры как живой традиции.
Глава 4
СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД
Свадьба Григория Ивановича Ермолина и Степаниды Васильевны. На переднем плане Ананий Иванович Булыгин. Фото 1928 г. из семейного альбома Н.А. Матвеевой.
Свадебный поезд. Фото 1950-х гг. из семейного альбома М.П. Каневой.
В усть-цилёмском говоре термин «свадьба» отражал как реальное событие, так и использовался в иных значениях. Выражением
вся свадьба впереди – констатировали факт, связывавшийся с предстоящими трудностями в жизни;
маланьина свадьба упущение в жизни, последовавшее по причине собственной неорганизованности;
у вас своя свадьба, у нас своя о проблемах/делах, происходящих одновременно у разных людей;
до свадьбы заживёт утешение для детей, получивших ушиб или рану. Несмотря на то, что в последнем речении выражалась ирония, фразеологизм свидетельствовал о значительности свадьбы как жизненного события в жизни девочки, мальчика, которых с раннего детства готовили к этому и, соответственно, свадьба, особенно для девочки была её заветным желанием и мечтой.
Время проведения свадеб строго оговаривалось церковным и хозяйственным календарем. Ещё в 1970-е годы браки не совершались во время всех постов, поминальных (родительских) недель и на Радоницу, на святках (от Рождества Христова до Богоявления Господня), на молочнице-Масленице, в Светлую Седмицу, в день Усекновения главы св. пр. Иоанна Предтечи и в праздник Воздвижения Креста Господня, накануне воскресных и праздничных дней, в среды и пятницы. Как и у всех православных христиан, предпочтительным брачными сезонами были осенний и зимний мясоеды: с Покрова до Филиппова (Рождественского) поста и с Богоявления Господня до Масленицы. Весной свадьбы совершались с Фомина дня (Антипасха) до Вознесения Господня. Нарушению брачного календаря приписывали разные несчастья; пожары, семейные неурядицы, рождение слабых детей и др.
Свадьбы преимущественно играли в периоды с Рождества до Великого поста и после Пасхи до Троицы. В летнее уборочное время их устраивали, если в семье нуждались в женской рабочей силе. В этом случае свадьба совершалась «на скорую руку». Невестку искали в семье с крепким хозяйством, чтобы при необходимости можно было воспользоваться помощью новой родни. По традиции длинные свадьбы длились от трёх дней до недели, короткие – один день, проходили в воскресенье.
§ 1. Предсвадебные обряды
Сватовство
Местные термины – сватанье, сватосьво. В подготовке сватовства участвовали не только взрослые (женатые) члены семьи, но и всего рода и общины в целом: «Выбирают, обсуждают – “котора поработче». Бывает у парня до 40 невест, а у невесты до 40 женихов – так долго выбирают», – пишет Н.П. Колпакова. Несмотря на то, что выбор и одобрение брачной пары чаще оставался за родителями, случалось, что они поддерживали выбор молодёжи, и тогда сватовство было предварительно подготовлено женихом и невестой, а о самостоятельности детей родители говорили «Нам с ними под одним одеялом не спать». По материалам Н.П. Колпаковой за 1929 г., в отличие от «прежних времён», молодёжь чаще проявляла самостоятельность в выборе брачного партнёра: «Нынче жених женится – любую девку берёт, не то, что раньше. Бывало, нелюба девка, а родных послушает и нелюбу берёт. Теперь невесты взамуж по своей воле бежат, приневолу нету. Правда, быват, что понасилу отдают, да уж очень редко. <…> Теперь очень часто женятся наперекор родителям». Если парень заручился согласием девушки на брак и его выбор был одобрен родителями, то он сам выступал инициатором сватовства. Знаком их взаимного договора был обмен залогами: девушка давала парню задаток обычно свои личные вещи – золотое кольцо, сарафан, а жених отдаривал её платком, который она начинала носить ещё до сватовства: повязывала при выходе на улицу, сообщала о подношении подругам, и по платку деревенские жители узнавали о договоре: «Раз платок подарил парень, скоро засвататься должен».
Иногда парень принуждал девушку к свадьбе, взяв с неё задаток силой (воровськи), т.е. мог снять платок с головы во время горочного гулянья или прохаживаний девушек по деревне: «Если девушка согласна идти замуж, могла дать в зарок цепь или кольцо. А если нет, то парень мог умыкнуть с головы платок. Платы были дорогие. И, если она не согласна или родители не согласны отдать девушку, они просто-напросто с платом расставались, он уже оставался тогда навсегда у родни парня, его потом они носили. А если согласна была идти замуж, то плат возвращался, во время того, как будут наряжать невесту на выданье. Зарок возвращался. Вот такие тогда были правила и это не осуждалось». По общерусской традиции платок был свадебным символом «покрытия» (сокрытия) всего, что имело отношение к молодым на протяжении всех этапов обряда. Случалось, что после обмена залогами девушка неожиданно отказывала парню, в этом случае вещи не возвращались, и обиженный жених обнародовал обман девушки следующим образом: привязывал залог к дуге запряжённой лошади и в течение дня гонял по деревне, что для злополучной невесты считалось позором. В другом случае, когда девушку выдавали замуж насильно за нелюбимого парня, односельчане и родственники в утешение говорили: «Днём не смотри, а ночью не видно» или наоборот, чтобы полюбить мужа, следовало чаще на него смотреть – «Любо – не любо, чаще взглядывай». Бывали и трагические исходы: девушка лишала себя жизни (тонула) и рядом с прорубью или на берегу оставляла платок как знак её ухода из жизни. Об имевшем место браку по принуждению свидетельствует текст плача подруг невесты:
Не оннако да замуж выйдется,
Не оннако да муж навернется,
Не камешек на бережку, не выберешь…
Но в целом, как писал Н.Е. Ончуков, в Устъ-Цильме «крайне редки случаи насильной дачи девушки замуж, случаи всеми, безусловно, осуждаемые и по общему мнению никогда добром не кончающиеся». Не исключено, что такое отношение к замужеству сформировалось под воздействием староцерковных предписаний, запрещавших насильственные браки (Кормчая). Выражения добром выходить ‘выходить замуж, имея обоюдное согласие родителей и вступающих брак’, добром отдавать ‘благословлять детей на брак по любви’, добром брать ‘жениться на любимой девушке, имея согласие родителей’ свидетельствуют, что наряду с бескомпромиссным решением родителей практиковались и договорные варианты заключения браков, которых по рассказам информантов было больше. Браку по любви способствовала и вышеописанная форма брака уходом.
В малонаселённых деревнях невесту искали «на стороне»: родители жениха, от которых чаще всего исходила брачная инициатива, через знакомых узнавали, в каком селении имелась девка на выданьи; бедному жениху подыскивали невесту среднего достатка, а из более крепких семей – богатую. Старались подобрать в пару людей приблизительно одного возраста, по присловью: «За старым жить – только век должить, за малым жить – только маяться, за ровнёй жить – жить да тешиться». В Усть-Цилёмской волости, как и повсюду в России, на женщину смотрели как на рабочую силу, и даже в зажиточных семьях поводом к женитьбе сына служило стремление заполучить даровую работницу. Поэтому выбирали девушку физически крепкую. здоровую. «Несмотря на известную свободу отношений молодежи, учитывали и фактор девственности девушки: н е п о р о ч н о с т ь ценится больше всего, затем з д о р о в ь е и всё прочее». При этом судили и о представителях рода: «Хоть урод, да из роду», говорили о некрасовитой девушке или подобном парне, но из добропорядочной семьи. На семейном совете обсуждались личные достоинства невесты и экономическое положение её родителей: «Выбирали дочь добрых родителей, не ославленных, не охуленных, справно живущих». Тщательно проверялись родословные линии обеих сторон до шестого колена, чтобы избежать кровнородственных связей. В д. Скитской старцы вели запись всех пижемских родов, начатую наставниками в Великопоженском монастыре с тем, чтобы избежать кровосмешения. По сообщению Е.М. Чупровой из д. Боровской – самого удалённого пижемского селения от скита: «Ещё в 40-х годах XX века специально ездили в Скитскую держать совет со стариками, дабы не нарушить традицию». В с. Бугаево, по Печоре, родители жениха большое значение придавали чистоплотности предполагаемых сватов, их деловитости: «Выбирали невесту так: из другой деревни скажут, что невесты есть и родители с женихом едут, смотрят двор, если двор чистый, то к той девушке заходят и сватают, а если двор грязный, то едут к другой и даже к третьей». Сразу отклоняли кандидатуру, если выявляли в роду лиц с психическими заболеваниями.
В военные и послевоенные годы особо девушкам было не до выбора женихов, какой сватался – за того и шли. Говорили: «Лишь бы посватался кто» или словами присловья – «Добьёт нужа* до худого мужа».
* Нужда
Определившись с невестой, родители жениха приступали к организации сватовства. Прежде всего служили молебен Богородице, молились за здоровье и благополучие сына.
На роль сватов приглашали женатых мужчин и женщин, не состоящих в прямом родстве с женихом, обладавших такими качествами, как: здоровье, доброта, материальная обеспеченность, сметливость, умение вести разговор. Сами родители сватали крайне редко. Значительную роль в сватовстве и обряде в целом играли крёстные жениха и невесты: вместе с родителями они приглашали односельчан для участия в сватовстве. По народным представлениям, от удачно подобранных кандидатур зависела будущая жизнь молодожёнов.
Литературные источники середины XIX века и мои полевые материалы конца XX века позволяют говорить об эволюции сватовства и обряда в целом. В описаниях путешественников о свадьбе учитывалась и её календарная приуроченность: в летний период свадьбы всегда проходили скромнее и были укороченными, что связывалось, прежде всего, с хозяйственной деятельностью – сезоном рыбалки, посевных, уборочных/сенокосных работ. Согласно описанию Н.А. Шабунина, составленному в 30-х годах XIX века, сватовство проходило в два этапа. Сначала свататься ходила одна с в а х а, на роль которой приглашали дальнюю родственницу или хорошо знакомую семье жениха односельчанку, имевшую авторитет среди сельских жителей, обладавшую деловыми качествами, смекалкой. Поход свахи был «разведкой»: ей необходимо было выяснить, насколько реальны шансы у жениха на женитьбу, каков достаток родителей предполагаемой невесты и рассказать об экономическом положении семьи жениха. В окончательном сватовстве – собственно сватанье участвовала уже не сваха, а с в а т ь я – м а т ь ж е н и х а. Согласно описанию, «в доме невесты сватья, помолившись иконам и поклонившись хозяевам, становилась под воронец и объявляла почтение от родителей жениха, а также сообщала о намерении своего сына взять в жены их дочь. Во время разговора сватья должна была придерживаться рукой за воронец, что на знаковом уровне говорило о решительности и твёрдости её намерений. На приглашение пройти и сесть к столу гостья отвечала, что пришла «за делом», и лишь получив согласие на свадьбу, она проходила и садилась на лавку в переднем углу, принимая различные угощения». Такая традиция сохранялась в окраинных деревнях до первой трети XX в., о чём писала Н.П. Колпакова.
Из скудных описаний, составленных С.В. Максимовым, известно, что от сватовства до свадьбы проходило от одного до двух-трёх дней. Иногда три важнейших действия – сватовство, сговор и рукобитие проходили в течение одного вечера, а спустя день назначали свадьбу. Стремительность такого устроения обряда устьцилёмами автор объясняет скудостью их средств и занятостью на промыслах. В целом же, по моим полевым материалам, в конце XIX – начале XX века свадьбы проходили по традиционному сценарию с продолжительностью от двух с половиной до трёх недель – период, необходимый для сбраживания хмельного кваса: ставить квасы ‘подготовка к свадьбе’. В 1920-30-е годы «длинные» свадьбы сохранялись в самой Усть-Цильме и в окрестных деревнях (не далее 10 км), в других местностях играли «короткие» свадьбы, объяснявшиеся скудостью средств: «делали на скору руку», т.е. спешно. Совмещение двух или трёх ритуалов обычно происходило и в тех случаях, когда сваты приезжали из удалённых деревень: на сватовстве проходило рукобитье, расплетение косы и зарученье, и этим свадьба в доме невесты завершалась, а сваты уезжали с девушкой, справляли свадьбу без участия её родителей.
Согласно традиционному сценарию, свадьбе предшествовали сватовство, смотрины, рукобитье, дивишник. Сватовство начинали т р и человека: сват или тысяцкий (обычно крестный жениха), сватья (одна из тёток жениха) и сам жених. К выбору сватов подходили основательно. Чтобы успешно решить вопрос, приглашали людей, имевших опыт в делах сватовства: «Бабёнка должна быть така щщо лет 45-50, котора в деле ещо и – чтобы уважали ей. Сильна, могутна, семейна и чтобы в семье у ей все ладно было. Молоду бабу не приглашали». Таким образом, свахой могла стать женщина фертильного возраста, но уже приближавшаяся к переходу в следующую возрастную группу. В этом контексте особенно символичным является участие женщины, находившейся в «порубёжном» периоде жизни или приближённом к нему, которым подчеркивается не только переходность обряда, но и непрерывность жизни в целом.
Поскольку родители невесты вне зависимости от подготовленности сватовства обычно заставляли сватов приходить до т р е х раз, демонстрируя «спрос на товар», то с каждым посещением их количество увеличивалось на два человека. Для вторичного посещения было принято приглашать в сваты молодую семейную пару, имевшую семейный стаж не менее одного года и, желательно, детей. В третий заход в число сватов стремились включить наиболее удачливых в браке людей. Таким образом, предварительно намечали семь сватов, символика числа в мифологии общеизвестна, связывается с количеством «дверей» человека (два глаза, два уха, две ноздри, рот; устьц; загадка: горшок умён, семь дырочек в нём; ответ: голова человека). Семь – число Вселенной, макрокосма, означает всесторонность и полноту. В усть-цилёмском плаче пора замужества/зрелости сравнивается с красотой лент, названных семишёлковы:
Расплела твою трубчату косу.
Сповыняла ай ленты алые, да с е м и ш ё л к о в ы…
Или:
Ты голубушка моя белянушка,
Восприёмно да моё дитятко,
Расплету твою да трубчатку косу,
По единому да русу волосу,
Я сповыплету да ленты алые,
Ленты алые с е м и ш ё л к о в ы,
С е м и ш ё л к о в ы е да с е м и р а з н ы е…
Предусмотрительные родители жениха подбирали участников, имевших дорогие наряды. Специальной одежды, соответствующей обрядовому случаю, у устьцилёмов не выявлено. Обычно свататься ездили в недорогой одежде, и если в первый раз согласие не было получено, то при вторичном и последующем посещениях надевали одежду наряднее предыдущей, – этим подчёркивали уважительное отношение к роду невесты и, вместе с тем, через наряд демонстрировали обеспеченность рода; наряд рассматривался и как залог успеха свадьбы в целом. О настойчивости сватов говорится: «Бывало сваты по скольку раз приезжали сватать, ежели девка работяшша да добрых родителей. Мой дядя в еку даль ездил по невесту – в Трусово; ездили по девку, а она всё не шла, дэк дядя говорит: два раза и три приедём, а эту девку мы не упустим, всё равно с собой заберём, всё равно сосватали и ушла жить в Усть-Цильму. Бат и для чести сразу не отдавали»; «Бывало свататься приезжали, по три дня жили и отец не отдавал дочерь замуж, род худой, хошь и из богатого рода был жених, а роду худого и не отдавали. Может, вороваты были, может дерибоваты (драчливы С.С.). Всяки веть были люди». Иногда родители невесты просили время, чтобы взвешенно обдумать предложение и принять решение, чаще в случаях, когда жених приезжал из дальней деревни и его род был неизвестен; в этом случае отвечали иносказательно:«Невеста не кобылка, из стати не выведешь».
Особо подготавливали сватовство, когда ехали сватать невесту в дальнюю деревню. В этом случае количество сватов возрастало до девяти человек, в число которых входили и родители жениха. Сватовство длилось до трёх дней, по окончании которого при положительном решении вопроса невесту сразу увозили в семью жениха, и, как уже говорилось, иногда свадьба проходила без участия родителей невесты, как это случилось в жизни Парасковьи Семёновны Каневой: «Мы жили у Филипповых. Меня рано сватать стали в 14, 16 лет, да родители не отдавали. В 18 лет о Рожесьви было приехали сваты из Ермицы, бат полторы сотни вёрст ехали. Приехали вдевятером, с родителями. Приехали на лошадях. Мамка сразу родников собрала, сватали при них. Я никак не хотела замуж идти, да еко далёко. Одномя сваты уговорили татку, когды привели молицце, я мало не без сознанья была, так плакала, не хотела. Потом жених тут и осталсэ, собрали родители девок на прошшанье, повеселиться. Да како уш у меня было весельё, не знала куды еду. Утром меня в байну водили, заручели, мамка голосом плакала». Бывало, что при длительных переговорах родители невесты ходили к соседям за советом, что свидетельствует о значительности роли общины в делах конкретной семьи и готовности разделять ответственность за судьбу девушки.
В обязательном порядке определяли день недели для сватовства, который даже в одной волости разнился: устьцилёмцы предпочитали праздничный день, пижемцы – субботу, цилёмцы – любой день недели, кроме среды, пятницы и субботы: «Меня пришли сватать в субботу. На Цильмы преш не сватались в субботу. А тут уж после войны было в 1968 году, жениховы родители и не посмотрели. А меня мамка не выдала. За чаем посидели, обо всём договорились, Богу помолились, но не отдала меня увезти. По божественному нельзя в субботу выдавать. А в воскресенье приехал и забрал меня к Ортиным. Девок к Ортиным из Филипповской брали».
Традиционно сватовство проходило тайно: поздним вечером или ночью, таинственность предполагала успешность в деле и, вместе с тем, в случае неудачи у сватов оставалась надежда избежать позора; приехать на простых ‘получить отказ от невесты’. Однако, если на сватовстве случалось застать в доме невесты посторонних, говорили: «Сваты людей не боятся», чем выражали свою уверенность и твёрдость намерения.
Несмотря на то, что сватовство по обыкновению и обставлялось «таинственностью», в деревне практически всегда было известно о нём, а уж тем более для девушки приход сватов не являлся неожиданностью, и если девушка была молода и хороша собой и не отвергала нежеланного жениха, то придерживалась такого присловья: «Замужница не заречница, не запечница: из заречья переедешь, из-за печки выйдешь, а от мужа уже не откажешься». Если жених ей не нравился, она убегала к соседям, и сваты ехали сватать другую. Тайна сватовства соблюдалась лишь в случаях приездов сватов из дальних деревень.
Благословление в дорогу было обычным делом, по обряду нередко жениха благословляли в земном поклоне. Сватовство для него называется информантами самым волнительным в обряде, поскольку решение невесты и её родни на брак чаще оставалось под вопросом даже в тех случаях, когда сватовство было предварительно подготовлено. Одним из приёмов для достижения успеха в сватовстве был ввод жениха в дом невесты спиной вперёд (чтобы не было отказа), применяемый в том случае, когда все предыдущие попытки сосватать девушку были неудачными. В повседневной жизни заходить таким образом в дом считалось неблагочество: как нелюдь, выворотно – так заходили «знающие» и приход подобных людей для хозяев считался опасным. В свадебном обряде этим приёмом «снимали» зловещее невезение жениха (ср.: при скрадывании пути переодевали обувь с ноги на ногу или меняли стельки, расстёгивали одежду и меняли местами её борта). Отказы случались чаще, когда к девушке сватался парень из дальней окраинной деревни. В этой ситуации, чтобы получить согласие на брак, иногда в число сватов приглашали бабку-знахарку, которая должна была способствовать успешному сватовству: «Раньше ведь бывало девушек далёко от дома выдавали замуж. Сваты возьмут бабку, та девку погладит по спины и всё, девка засобираецце замуж, всяко бывало. Раньше боелись этого».
Независимо от расстояния, разделяющего дома жениха и невесты, свататься всегда е з д и л и на лошадях, что обуславливалось запретом на пешие передвижения в пределах домов расположения жениха и невесты. Зимой ездили в санях – в карете-розвальнях, летом – на телеге/тарантасе. Участники обряда следовали строгим правилам, незакреплённым в письменной традиции, передававшимся изустно. Жених сидел на обработанной шкуре оленя – постели, или красном сукне в левой части повозки, остальные – в правой. Жениху запрещалось участвовать в управлении лошадью В свадебные упряжки впрягали только жеребца, кастрированных коней и кобыл использовать строго запрещалось, тогда как в гаданиях использовали исключительно кобыл. Пижемцы зимой ездили свататься на двух упряжках. Впереди ехала карета – двухместная крытая повозка, в которой на красном сукне сидели жених с крёстным, а следом в санях-лежанке – или розвальнях – сваха, а в последующие посещения в ней размещались остальные участники сватовства.
В обрядовой символике сватовства одним из главных опознавательных знаков был звуковой код. О приезде сватов определяли по их действиям: пижемцы стучали палкой в простенок, устьцилёмцы громко топтались и разговаривали перед входом в дом. Использование подобных шумовых эффектов в семейной и календарной обрядности (святки – угадывание имён суженого при помощи скрипа жерновов, слушание под хлевным окном; в погребальном обряде – шорох как примета смерти; в родильном обряде – стук в стену как способ изгнания нечистой силы и т.д.). В контексте свадебной обрядности стук в стену обретает ещё и некую эротическую символику.
Соотнесенность невесты с чужим, неведомым миром подчёркнута и строгим соблюдением обрядового этикета. Войдя в дом, сваты должны были оставить дверь полуоткрытой (с. Бугаево) и переступать порог левой ногой, проговаривая про себя или вслух: «Господи, благослови, Христос». В избе гости становились под грядкой или под матицей, не заходя за неё, совершали три поясных поклона. На предложение хозяев пройти и сесть отвечали: «Мы не сижачи, а стоячи» (с. Бугаево).
Первым заводил разговор сват. Вот некоторые варианты: «У вас невеста – у нас жених, нельзя ли род свести, на сватовство завести»; «Хорошо яичко да к Петрову дню, хороша невеста да ко времени» (Пижма); «Мы приехали об добром деле, об сватовстве: не можно ли род свести, да сватовство завестия»; «Приехали сыздалека, да приехали неспроста: невесту посмотреть, да жениха показать» (Усть- Цильма); «Мы не спать пришли, не дремать пришли. Мы невесту выбирать»; «Ваш товар, наш купец» (Бугаево и селения по Печоре); «Не к руке ли рукавица?» (повсеместно на Нижней Печоре). Не менее изысканными были ответы, когда хозяева не спешили с утвердительным ответом: «Не перестарка просите, не угуляно, не ухожено, сундук платьев не изношено» – этим подчёркивали скромность девушки, её молодость; за таким ответом сваты «прочитывали» просьбу родителей девушки прийти в другой раз. Отказом отвечали крайне редко, так как родители стремились выдать дочь замуж до 20-ти лет, что было не только престижным, но и житейски необходимым, о чём свидетельствует такая устьцилёмская пословица: «Кислы шаньги не еда, старым девкам замуж не хода». В случае раннего замужества говорили: «В цвету девку взяли, не перестарка»; встречаем и такие суждения: «…дочь ненадёжный товар и с цены спадёт, а парни на деревне все равны»; «а нову* девку, котора уж шибко засидится, дек то и не думали, какой подвернётся, за того нимо** и выдавали». В разговоре сваты расхваливали жениха, используя метафоры: «Не желаешь ли, красна девица/бела лебедь, выйти замуж за нашего ясна-сокола. Жених с горы*** и с воды****, да и не бедный: дом имеет – терем, а и коровушек, балечек*****, лошадок».
* Иную.
** Быстро.
*** Охотник.
**** Рыбак.
***** Овечек.
Родители невесты внимательно следили за действиями сватов, поскольку в их поведении прочитывались и знаки обеспеченности. Так, закидывание ноги на ногу указывало на успешность и зажиточность, особенно, если выставлялось колено нижней ноги: «сидеть ножка на ножку считалось – по богатому». В таком случае соглашались на свадьбу без промедления.
Невеста во время разговора находилась в другой избе, чаще за печкой/на печке. Печь как воплощение сакральной части жилища, совмещающая в себе центр и границу, осуществляла связь с внешним миром, в том числе и «тем светом». Поэтому в свадебном обряде в определенные рубежи «перехода» (сватовство, рукобитие, заручение) все действия проходили возле печки. После живописных описаний жениха сваты просили отца девушки показать дочь. Несмотря на то, что мнение её на брак либо не спрашивалось, либо было известно, отец шёл за ответом дочери – спросом и выводил её к гостям, что означало согласие на брак, которое также выражалось посредством знака: невеста выходила и повязывала платок на шею своего избранника, с которым он ходил в последующие дни. Платок служил для односельчан оповещением о предстоящей свадьбе.
После этого все становились перед божницей на богомолье, и хозяева накрывали стол – устраивали пропой дочери. Сваты за столом размещались по чинам: в передний угол садился тысяцкий, слева от него – жених, рядом – сватья, если участвовали дружки, их размещали за столом «пониже»; родители невесты занимали место возле печки или в куту – бабьем углу, прислуживали гостям. Согласно материалам Н.П. Колпаковой, «за стол заходили “по солнцу’, начиная с младших чинов: сначала дружки, потом сватья, потом жених, потом тысяцкий. Посуду, если своей мало, берут у соседей. За столом едят, что придётся: рыбу или мясо, а ничего особенного не делают. На стол подают всё сразу, без перемен».
В процессе угощения обе стороны решали организационные вопросы: договаривались о денежном запросе с жениха, о дне смотрин, обсуждали состав приданого. Самым богатым считался запрос в 100 рублей, бедным – 20-30 рублей, который передавали на смотринах; по моим полевым материалам – на рукобитии. При решении финансового вопроса учитывались такие обстоятельства, как вдовствующее положение матери невесты или если дочь была единственным ребёнком в семье. В этих случаях запрос был выше и иногда составлял 120 руб., и кроме денег, мать могла запросить ткань на рубаху или сарафан. Здесь же обговаривали приданое невесты. За «богатый» запрос полагалось справное приданое, например, лошадь с упряжью, или корова с телёнком, орудия труда (коса-горбуша, грабли), «место» (постель), одежда. «Кроме того, с невесты молодому живёт рубаха, а если запрос богатый, то жалетка». Н.П. Колпакова отмечает, что в 1920-е годы, если соединяли богатые рода, то запрос с жениха и подарки для него не оговаривали, ограничивались тем, что невеста выражала согласие на свадьбу, даря жениху пояс «сеточку». Пропой был недолгим; сваты благодарили хозяев за угощение и уходили.
Согласно обрядовому поведению, жениху и невесте запрещалось участвовать в угощениях до свадьбы, что связано с архаическими представлениям о соотношении еды и межполовых взаимоотношений: «Пищевое общение мужчин и женщин несовместимо с половым общением: с кем вместе едят, на тех не женятся: на ком женятся, с теми вместе не едят». Неучастие их в общей трапезе закреплено и в средневековом свадебном чине.
Если сватовство проходило в одной деревне или не слишком удалённо, то на пропое после совершения молитв жених и невеста уезжали в дом жениха и устраивали «гостьбище у жениха». Невеста созывала подруг на вечеринку, жених – друзей; все собирались во дворе у невесты, затем организованно в сопровождении свата ехали к жениху: в повозке размещались сват, невеста с женихом, остальные верхом на лошадях. По обрядовому этикету сват первыми заводил в дом жениха и невесту, которые соответственно находились от него слева и справа; следом в свободном порядке шли остальные. Иногда на вечеринке присутствовали сёстры и в обязательном порядке братья невесты. В доме невеста с подружками размещалась за столом в переднем углу, друзья жениха размещались на лавках вне стола. Сначала сёстры жениха, а затем сам жених угощал девушек чаем и сладкой выпечкой; родители при этом не присутствовали, находились в другой комнате. Молодёжь веселилась: пели песни, «кружались» под исполнение песен: «раньше играли по песням, теперь только кружаются. Жених приглашает гармониста и пляшут под музыку». Традиционно гулянье завершалось под утро, жених провожал невесту, остальные расходились свободно.
Если сваты приезжали из дальней деревни, то молодые во время «пропоя» находились в другой комнате. В случае, когда жених или невеста были сиротой, то после успешного сватовства, на следующий день, с ближайшими родственниками обязательно ходили на кладбище; девушка в плаче просила благословения у родителей, за парня плакала ближайшая родственница.
Смотрины
В средневековой Руси этот обряд проходил только в доме невесты, сопровождавшийся взаимными одариваниями сторон. В ХIХ веке в разных местностях смотрины являлись двухсторонними: в разные дни смотрели хозяйство жениха и невесты, а иногда смотрели только хозяйственный двор жениха, чтобы убедиться, что семья в состоянии прокормить нового члена семьи. В Усть-Цильме этот предсвадебный этап сводился к рассмотрению экономических вопросов обоих семей, тогда как в центральных русских районах чаще смотрели хозяйство только у жениха, а у невесты устраивали пир, на котором родители девушки давали окончательный ответ. На Нижней Печоре смотрины устраивали на следующий день после сватовства или через 3-4 дня, сначала в доме жениха, куда приезжали родители невесты, которые внимательно осматривали хозяйство: скот, амбары, инвентарь, заготовки для производства орудий труда, средства передвижения и т.д. После ознакомления с хозяйством принимающая сторона устраивала стол, разнообразие яств которого также служило показателем благосостояния хозяев. Спустя день или два родственники невесты приглашали к себе представителей жениховой стороны, которой также показывали «зажиточность» и ещё раз обсуждали часть приданого, составлявшего скот и инвентарь, одежду. На смотринах родители невесты давали окончательный ответ. Если он был положительный, то следующим свадебным этапом было рукобитие.
Рукобитие
Рукобитие было религиозно-семейной и вместе с тем общественной формой санкционирования и гарантирования брака, проведение которого варьировалось в зависимости от условий проведения свадьбы. По традиции обряд проходил в специально назначенный день (обычно через неделю после сватовства), совмещение обряда со сватовством встречалось в ситуации, когда сваты приезжали издалека – бывало, деревни находились на расстоянии свыше 150 км – и обычно рукобитие завершало все положенные случаю обрядовые действия, а на следующий день сваты увозили невесту и свадьба проходила в семье жениха, но без участия родителей невесты. Совмещение обрядов встречалось и в других местностях.
Наиболее полные описания о рукобитии получены в с. Усть-Цильма и в прилегающих к ней деревнях: Сергеево-Щелье, Чукчино, Коровий Ручей, Карпушовка, Гарево, имевших единый брачный круг. Обряд проводили в назначенный день, в доме невесты в присутствии родителей брачующихся, их крестных и домочадцев: били по рукам днём – в полдень, сравниваемый в прошлом с «нежизненным состоянием». Временная приуроченность обряда отражена в текстах плачей, звучавших на рукобитии:
Высоко сднелось да красно солнышко,
На п о л д е н пришло да обогревное (разрядка моя – Т.Д.),
Ты кормилец мой, гора высокая,
Не ставай-ка да на резвы ноги.
Со брущатой да гладкой лавочки,
Ты не мой лица да ключевой водой,
Не вытирай руки да полотенышком,
Не ставай-ка да против Господа,
Не клади ты крест да по-ученому,
Не веди поклон да по-писаному,
Не твори молитвы Исусовой,
Не давай свою да руку правую
Через те столы да через дубовые,
Через скатерти, через полотняны,
Через ествы да через сахарные,
Через пиво да через разное,
Не пропивай мою да буйну голову.
В усть-цилёмской традиции свадебные голошения н а ч и н а л и с ь на рукобитии, в зависимости от этапа их исполнения, называвшиеся плач, приплакивания, заручение, оголашивание, опевание, пение, которые завершались в свадебный день в доме невесты. В исключительных случаях, когда рукобитие совмещалось со сватовством, невеста начинала плакать уже на сватовстве. Статус невесты подчеркивался пространственным её размещением, где звучали плачи: кут, крышка погреба, кладбище, баня. Обряд начинался с общей молитвы; плач невесты, в котором она умоляла отца не выдавать её замуж, являлся сигналом к рукобитию. Вне зависимости от обстоятельств: по любви выходила девушка замуж или за «навязанного» ей парня плачи звучали «от всего сердца» и, как комментируют информанты, даже если брак строился по любви, жизнь в замужестве таила много неизвестного. Иногда девушки, буквально, убивались в рёве, рёвом ревели, т.е. голосили до исступления.
Невеста отцу:
Не ставай-ко, мой гора высокая,
Со лавицы со брусчатоей,
На белы полы на еловые,
На часты мелки перекладинки!
Не мой свои да руки белые
Ключевой водой да холодноей,
Не три свои да руки белые
Шитым-браным полотенышком!
Не ставай-ко против Господа,
Не клади поклон по писаному,
Не твори молитву полн-Исусову!
Не давай свою да ручку правую
Ты злодею, свату большему,
Через столы через дубовые,
Через столешенки шатровые,
Через скатерти да шито-браные,
Через питья-ества сахарные,
Через рюмочки да хрустальные,
Через стакашики да через пивные!
Кормилица моя, гора высокая!
Что скучным тебе наскучила?
Что скучным напрокучила?
Не окошечки я у тя проглядела,
Не лавочки брусовы просидела,
Не белы полы протоптала,
Не пороги у тя да прохоркала,
Крючки крепкие да не провичкала,
Не сундук платья износила,
Не сусек хлеба повыела!
Уместно предположить, что изначально обряд совершался (разнимали руки) непосредственно над столом, но со временем в него были привнесены изменения. В пользу этого свидетельствуют и записи Н.П. Колпаковой, произведённые в д. Климовке, расположенной в приграничной зоне с Пустозёрской волостью: «В день свадьбы бывает рукобитие. Невеста в это время сидит под платком в кути. Подруги за ней. За столом бывает рукобитие – “здымают руки” – кладут друг на друга. Невеста начинает плакать. Как её голос услышат, руки разоймут, сядут за стол. Тысяцкий вынимает вино и подаёт отцу невесты – отец невесты угощает сначала от жениха, потом от невесты (меняются бутылками: отец невесты даёт тысяцкому, а тот – ему). Прежде при угощении сильно кланялись, а теперь нет». Вероятно, это был древнейший вариант обряда, в котором размыкание рук происходило над столом, сигналом к началу которого являлся звуковой (голосовой) код, являвшийся кульминационным в предсвадебной обрядности, связанный с изменением и одновременно закреплением статуса просватанной невесты, не подлежащего пересмотру. Т.А. Бернштам отмечает, что «ритуальный крик был первым звуковым сигналом самой девушки о коренном изменении в жизни и семантическим признаком статуса невесты». В усть-цилёмской традиции попрежнему сохраняется высокое значение стола (столпрестол), как центра дома, объединяющего семью и – шире – род (ср.: в поминальном обряде участники после трапезы остаются за столом, ожидая милостыни, и только получив её, выходят и вновь становятся на молитву; называется подать/помянуть через стол – иначе – накормить родителей). Все важнейшие этапы свадьбы завершались трапезой, следовавшей после достижения конкретной цели и разрешения ситуации, – ритуал, закреплял действо и одновременно связывался с идеей пути – перехода к следующей стадии обряда.
Ещё один вариант рукобития, исполняемого в первой трети ХХ века, удалось реконструировать по полевым материалам. Важная роль в нём отводилась старейшим членам семьи, обязательно женщинам, являвшимся хранительницами семейных обрядов. Этот и все последующие свадебные ритуалы, за исключением девичника, начинались с молитвы, для чего затепливали свещи на божнице, сообща молились – «клали приходный начал», благословлялись, старшая в семье кадила иконы и всех присутствующих. На Печоре не выявлено исполнение стихов, предписываемых староверческим брачным Уставом (см. гл. 2). В некоторых случаях читали Богородичную молитву «Богородице Дево, радуйся…», или пели литию «За всякое прошение». В печорских деревнях обряд рукобития имел и другое название класть руки через рукав, поскольку обязательным атрибутом являлся меховой тулуп или сюртук. Действие происходило в центре избы, под матицей – пространственным размещением участников подчёркивалось пограничное состояние невесты и обряда в целом. Отцы брачующихся просовывали правую руку в разные рукава сюртука, и соединяли их; затем поверх отцовых рук клали правую руку жених, невеста и все присутствующие. Сват рукой в вязаной рукавице снизу разбивал наложение рук, и после этого отец жениха также через рукав передавал отцу невесты запрос за невесту. Этикетное поведение – пожимание рук и их разбиваниие – свидетельствовало о завершенности дела и окончательном договоре сторон, не имеющего обратного хода. В народном толковании рукопожатие через рукав соотносилось с пожеланием молодым богатства, семейного благополучия.
Как и повсеместно, рукобитие, имевшее в разных местностях локальные названия, завершало этап сватовства и определяло начало подготовки к свадьбе. Важнейшими з н а к а м и статуса н е в е с т ы являлись её с о с т о я н и е, сравниваемое к а к «н е ж и в о е»: в ключевых обрядовых действиях её под руки волочили подруги; и её н а к р ы в а н и е платком. Знаки указывали на переходность обряда (ср.: в погребальном обряде гроб с телом женщины в последний раз накрывали большим платком перед выносом его из дома и убирали на кладбище, тут же передавали крестнице на помин души). Данные полевых исследований позволяют говорить, что в усть-цилёмских селениях в начале ХХ в. публичное накрывание невесты происходило только на рукобитии и в день свадьбы на её заручении, тогда как в других севернорусских местностях невеста в течение всего досвадебного периода не только не снимала закидки (фатки), но и не сменяла одежду.
После состоявшегося рукобития невесту у в о д и л и в другую комнату или в кут, где она продолжала голосить, а спустя некоторое время, в ы в о д и л и наряженной к жениху и с а ж а л и за стол. По описанию середины ХIХ века: «Начинается пропой невесты. Невеста выводится закрытою, как это делалось у наших предков, и начинается плач. Неутешно плачет бедная невеста, отдаваемая в рабство человеку, ей неизвестному и, быть может, вовсе нелюбимому. Под весёлый говор подпившихся мужиков, она прощается со своей девической жизнью, но никто не возмущается её причитаниями, а смотрят на вопль и слёзы как на пустой обычай или на девическую нежность»? В процессе угощения невеста благодарила каждого мужчину из семьи жениха за участие в обряде и дарила им по платку. За трапезой обсуждали организационные вопросы свадьбы: назначали день торжества, ещё раз обсуждали состав приданного. Временной промежуток, разделявший сватовство и собственно свадьбу, был различным, от одной до трех недель. Его продолжительность зависела от экономического положения семей, от сезона, но порядок обрядовых действий всегда был одинаков. На этот период жениха и невесту освобождали от всех хозяйственных дел, они участвовали в молодежных развлечениях, а родители начинали подготовку к свадьбе.
По рассказам информантов, приобщение девушек к культуре плачей происходило в свадебном обряде, где их исполнителями были сама невеста, её подруги, мать, бабка, крёстная. Этому девушек обучали молодые женщины, которые сами являлись активными вопленицами при совершении обряда: «В молодости она (Авдотья – Т.Д.) водила “зарученье”, невест учила плакать, потом стала оплакивать умерших». Иные обучались искусству плача у своих матерей. Некоторые информанты объясняют своё раннее приобщение к плачевой культуре «нелёгкой судьбой», «ранним горем» (сиротство), и плач являлся выражением их печали («выплачу, дак легче»). Но отнюдь не каждая девушка обладала талантом к исполнению плачей. Даже в обряде нередко за неё приплакивала мать, крёстная или бабка, а она «тихо роняла слезы». И все же в представлении устьцилёмок, каждая женщина должна уметь «плакать голосом» с тем, чтобы при случае оплакать близких.
§ 2. Подготовка к свадьбе
Приготовление свадебного стола
Перечень приготавливаемых блюд был разнообразный, этим демонстрировали обеспеченность семей и того же желали молодым. Рацион блюд зависел от времени года, но всегда доминировали продукты охоты и рыболовства. На свадебном столе было широко представлено мясо птиц – глухарей, куропаток, рябчиков: варили бульоны, мясо тушили (парили) в чугунах в русской печи и добавляли в каши. Особо почиталась рыба, занимавшая значительное место в обрядах; её запекали в тесте, варили, солили и подавали в сыром виде. В свадебном обряде она получила ярко выраженный символический характер: для молодых пекли рыбник, который молодая должна была начинать есть с головы, с тем, чтобы первым родить мальчика – наследника. Несмотря на то, что в русской свадьбе знаковым блюдом был курник, на Печоре приготовление курицы не отмечено. Отголоском является благословление молодых хлебом-солью на полотенце с вышитыми петухами.
В день свадьбы пекли подовый хлеб для благословения молодых, из зерна приготавливали хмельной квас, о поре подготовки к свадьбе говорили: лагуны заходили. При этом загадывали, если брага будет удачной, то жизнь молодых будет благополучной (ладной). Несмотря на запретное отношение к табаку, в 1940-60 годы в брагу для крепости иногда добавляли махорку, но поили ею только мужчин.
На свадебном столе богато была представлена выпечка: пекли козули – печенье в форме фигурок птиц, различные пряники, калачи, образцы которых имеются в коллекциях Российского Этнографического музея (СПб.), шаньги из дрожжевого теста (ленивые) и на сочнях (калитки) с верхним наливным слоем, который был разнообразным (разные сорта ягод, каши, позднее начали использовать картофель). Из ягод особо почиталась морошка, которая была не только украшением свадебного пира, но и символом мужчин. Считается, морошка благотворно влияет на усиление мужской потенции, поэтому ягодой потчевали жениха. Недвусмысленно об этом сообщается в загадке:
Росло сповыросло,
Из штанов сповылезло,
С конца залупилось,
Красно появилось. (Морошка).
В лечебной практике при простуде мужчин лечили отваром от шпеньков морошки, тогда как женщин чаще поили отваром мяты. Обязательным блюдом второго свадебного дня были блины, с которыми приходили гости со стороны невесты, угощая молодого. В целом, как сообщают информанты, столы ломились от яств, их разнообразие было направлено на успешную жизнь молодых.
Приданое, подарки
Ещё на рубеже XIX-XX веков к комплектации приданого приступали с момента рождения девочек, говорили: «Дочку в колыбельку – приданое в коробейку». В усть-цилёмских селениях выражением нагнетать сундук, как и в Поморье, обозначали скапливание приданого дочери: «Нагнетают сундук – приданое девкам. У мамы такой был сундук – вот как пол этой комнаты. Как Лида родилась, дак стали нагнетать сундук – платок рипсовый синий был, рукава, фартук, сарафан, камасницы, цепи семиколечны серебряны, писаны чулки, писаны рукавицы. В Архангельск отец ездил, дак привозил наряды – нагнетали сундук». О том, что в прошлом в зажиточных семьях приданое для дочери накапливали значительное, порой составлявшее несколько сундуков, неоднократно приходилось слышать от усть-цилёмских рассказчиц. Эта тема отражена и в фольклорном жанре частушки:
Мамка дура, мамка дура,
Отдала за дурака.
Пропадай моё придано
Все четыре сундука.
Богатое приданое придавало девушке большую уверенность в новой семье и определенную независимость. Из бедных семей, бывало, девушка приходила к мужу лишь в том, во что была одета. В этом случае её дальнейшая жизнь во многом зависела от её личных качеств: покладистости, трудолюбия, мастерства и др. О том, что «бедность не порок», говорится, к примеру, в таком повсеместно в усть-цилёмских селениях рассказываемом тексте: «Ну, Максимовна, у тя сын-от жонилсэ молодку голе ровдуги (облысевшая шкура оленя – Т.Д.) зял!» – «Не та молодка, котора придано принесёт, а та молодка, котора богоданно да благоданно наживёт, – отвечат соседка». В годы советского строительства приданое начинали собирать, когда девушка достигала совершеннолетия или после рукобития, что объяснялось: «Вдруг никто и замуж не возьмёт», хотя, представляется, что в действительности изменения связывались с общей утратой традиции. Скапливание приданого всегда оглашалось в сельской округе, что в дальнейшем являлось началом «славы» для девушки; о невесте, скопившей большое приданое, говорили: «С большим богасьвом девку берут, богата девка». У русских центральной России девушку с богатым приданым называли «богачунья». Ещё в 1920-е годы девушки-подружки собирались у невесты, шили приданое, чистили перья для подушек.
Как и повсеместно, приданое состояло из двух частей: одежды, постельных принадлежностей и некоторых предметов убранства; так называемый «наделок», состоящий из денег, скота, инструментов. К примеру, в первую часть приданого традиционно входило: три малицы (на разные случаи жизни), бахилы (кожаные сапоги), два совика, две пары летней обуви – ступни, вся повседневная и праздничная одежда девушки, две подушки, пуховое одеяло, постельное бельё, – все ее личные вещи; во вторую – орудия труда: деревянные грабли, коса горбуша, деревянная лопата, корова с теленком. В обязательном порядке родители наделяли дочь иконой, которая должна была хранить её в замужестве: «Дочери икону давали в придано обязательно. Како житьё без иконы? Мне мати дала створы и две древенные. С има и пришла на житьё к мужу». У пи- жемцев символом счастья считалась уточка-солонка, также входившая в состав приданого.
По традиции приданое отвозили в дом жениха в день свадьбы. По данным Н.П. Колпаковой, при венчании, пока молодые находились в церкви, невестина родня собирала дома её постель и отвозила в дом жениха. Постель стлали в кладовку и вокруг неё кадили ладаном. По сведениям информантов, приданое отвозили во второй половине дня, ближе к вечеру, за ним приезжали дружки, их встречали родители девушки, не участвовавшие в свадебном застолье у жениха. Оставшись дома, они угощали родню; дружки забирали их и отвозили на непродолжительное время в дом молодого лишь посмотреть свадьбу. В этот день мать непрерывно голосила в своём доме.
Одаривание – обязательный акт в свадебном обряде, совершавшийся на всех этапах его проведения, носивший двухсторонний характер, как, впрочем, и в других житейских ситуациях, о чём свидетельствует присловье «Подарки дарят и отдарки сулят». Первый обмен подарками проходил перед сватовством – обмен залогами. При сватовстве невеста одаривала жениха платком, при рукобитии также платком – всех присутствовавших мужчин из семьи жениха. «Сладкие» подарки преподносил жених невесте в течение всех дней, предшествовавших свадьбе.
Самыми главными подарками считались подношения сторон в день свадьбы, их готовили с особым старанием. Взаимные одаривания были престижны и после свадьбы обязательно обсуждались в сельской округе. По подаркам судили о мастерстве молодки, поскольку традиционно все вязаные изделия и одежду она готовила самостоятельно; мать шила постельные принадлежности: овчинное одеяло, подушки, входившие в приданое, и приобретала некоторые предметы убранства. Всем членам семьи необходимо было подарить по деревянной ложке, что символизировало готовность/прошение девушки на общую (семейную) трапезу. Подарок мужу был самым богатым: шёлковая рубаха, золочёный крест, пояс. Свекрови дарили два веретена, рубаху или ткань; свёкру – рубаху, шаровары; золовкам – по платку; деверьям – по рубахе. Особое внимание уделялось вязаным изделиям и предметам, связанным с прядением: молодая одаривала на свадьбе сторону мужа вязаными рукавицами (исподками), демонстрируя своё мастерство в рукоделии. Вместе с тем, за этим подарком угадывается стремление к налаживанию отношений (контакта) с новой роднёй. Свекровь отдаривала невестку прялкой и материей на сарафан или рубаху-рукава. Обязательность включения в подарок невесте прялки связывается с символикой перехода девушки в замужнюю жизнь. Успешность вхождения молодицы в новую семью символизировало и скатывание с горы молодицы на прялке (иногда с мужем) во время их первой «женатой» масленицы. В целом, взаимные одаривания были престижны, влияли на характер взаимоотношений двух родов.
Одежда на свадебном пиру
Специального свадебного наряда у устьцилёмов не выявлено, новобрачных одевали в праздничные одежды, используемые и в других случаях жизни. В зажиточных семьях, по традиции, справляли новую одежду, в семьях победнее использовалась и ранее носимая. Отличие костюма невесты от обычного заключалось в фактуре ткани и цвете – рубаху и сарафан изготавливали из ярко-красного штофа – в богатых семьях и сатина/недорогого шёлка – в семьях среднего достатка. Но самым изысканным считался золотой наряд, имевшийся преимущественно у зажиточных крестьян. За неимением таких нарядов невесту одевали и в другую одежду, сшитую из бархата, шёлка (матерчата), а позднее из парчи. В течение свадебного утра невеста трижды меняла одежду: на заручение и отвод в баню девушку одевали в будничную одежду: рубаха-рукава со станом и легкий сарафан из простой ткани. В бане одежда сменялась на лучшую, а уже в доме, перед приездом жениха невесту наряжали в праздничный наряд, под который надевали несколько рубах: поверх нижней рубахи повязывали пояс-сеточку, служивший оберегом; легкую рубаху с сарафанчиком, иногда на левую сторону (в повседневной жизни надеть одежду на левую сторону [наизнанку С.С.] означало иметь помыслы о блуде); праздничную рубаху и сарафан. В период бытования косоклинных сарафанов вначале подпоясывали сарафан, потом надевали коротеньку, тогда как с распространением прямого сарафана сначала завязывали фартук и затем пояс. Многочисленные переодевания и надевание нескольких рубах, в том числе на левую сторону, были связаны с апотропейными действиями, направленными на защиту невесты от вредоносного воздействия.
В течение свадебного дня происходила многократная смена головных уборов невесты. До заручения в косу невесты вплетали яркую ленту и накрывали реднинным/репсовым платом, под которым её уводили в баню. Перед выводом за стол ей заплетали две косы и надевали повойник (побойник), поверх которого завязывали особым безузловым способом платок или отдирыш. В этом головном уборе невесту выводили к гостям, и за столом совершался ритуал передачи её жениху. В побойнике невеста оставалась до ухода на подклет, куда уводили молодых на некоторое время во время свадьбы, после которого происходила замена повойника на женский головной убор – кокошник и платок. Предварительно косы укладывали вокруг головы и закрепляли при помощи ленты (косник) на затылке, сверху надевали кокошник, поверх которого повязывали платок молодкой (вар.: по-молодочьи, бабьим узлом), окончательно закреплявшим вхождение девушки в число замужних женщин. Отныне она должна была постоянно пребывать в платке.
В церковь на венчание невеста ехала в девичьей повязке хаз, тогда как в браке по благословлению такую повязку ей надевали в последний раз, когда невесту выводили на показ жениху, а перед её отъездом из родительского дома голову украшали свадебным головным убором – повойником (побойником).
Верхней одеждой невесты и золовок был шушун с лисьей, соболиной или куньей опушкой. Лицевую сторону изделия обшивали дорогими тканями.
Одежда жениха была простой и состояла из рубахи-косоворотки из красного шёлка и шаровар из пестряди, позднее брюк; жилетки и пояса; в зависимости от сезона надевали сапоги или меховую обувь, картуз или меховую шапку. Обязательной частью костюма мужчин и женщин были высокие орнаментированные вязаные носки.
Ещё и в 1930-е годы в зажиточных семьях жениха облачали в длинную туникообразную рубаху, считавшуюся подобающей случаю: «В Усть-Цильмы были богаты, знатны рода Богатырёвых, Ворониных, Чарнышевых, больши дома имели, и не по одному. У Богатырёвых сына женили, а это уш в 30-х годах, невеста нашила шёлковы наволочки в придано – раз в богатый род уходит, баску одёжу мати направила, а невеста потом мне рассказыват: «Спать стали ложицце, я сарафан раздеваю, рубахи снимаю, а он в оной рубахи женилсэ, бес шшанов, вот я дивилась, из богатого роду, а бес шшанов. Чулки писаны раньше до колен носили, а рубаха долга и не винно, что и бес шшанов был. Правда тако было». В другом анекдотичном рассказе высмеивается ситуация с непутёвым женихом: «Надумал один парничёк из деревни какой ле дальней жениться на устьцилёмке. Дело было весной. На сватовство сошили ему штаны и долгу рубаху, купили картуз – чин чинарём. По дороге спонадобилось ему по нужде. Зашёл в лесочек, снял шшаны, а шшобы не замарать, повесил на сук, а мало не носил шшаны, дэк и забыл их там. Приехал к невесты, сел дома на лавку повыше, да расставил ноги пошире, рубаху затенул повыше, шшобы девушка подивилась еговой обновы. А дефка глаза большушшы выкатила – сидит, а он думат девки подравились шшаны, девка удивилась, он и прихваснул: “Это чё, дома ишшэ три аршина осталось”. Девка испужалась, убежала в другу избу. Так сваты и уехали ни с чем. Про кого ле уш посмеелись, конешно, бат маленько приукрасили, ране веть над деревенскими устилёма шшэдрили*».
* Насмехались
На всех этапах свадебного обряда использовалась шкура оленя (постеля), которую стелили молодым на сани в свадебном «поезде» и на лавку за свадебным столом; на шкурах располагались парни в одну из ночей на девичнике; родители жениха благословляли молодых на постели перед входом в дом (падали в ноги). Овчинное одеяло было обязательной составляющей приданого невесты. Использование в свадебном обряде меховой шкуры, имевшей устойчивую семантику плодородия, богатства, благополучия, было направлено на обеспечение счастливой жизни новобрачных.
В настоящее время народная одежда в свадебном обряде является исключительно выразителем эстетических функций. Некоторые девушки-невесты, в том числе и приезжие, облачаются в народный костюм на непродолжительное время – сфотографироваться, или, если пары принимают церковное благословение, – на время совершения обряда. Вместе с тем на свадьбе иногда происходит передача народной одежды невесте, которую бабушка преподносит как свадебный подарок.
Обереги
Большое внимание уделялось охране новобрачных от порчи. Первостепенное значение придавали Исусовой молитве, которой обучали в раннем детстве; о ней говорили, что человека, живущего с этой молитвой на устах, никакое зло не возьмёт. Особое отношение у женщин сохранялось к Богородичным молитвам, в том числе и неканонического сложения, которые они знали наизусть и в ответственные моменты жизни читали «про себя».
Широко применялись обереги, в арсенал которых входили и украшения. По мнению устьцилёмов, металл обладал мощным свойством «отворота» порчи, особо почиталось золото и серебро, ещё и поэтому золотые и серебряные украшения всегда были в цене и пользовались спросом: «Излюбленными украшениями являлись серебряные с позолотой и золотые цепи, серьги, броши; цепи с крестами и без крестов (цепей одевали на шею до 4 — 5 шт.), кольца. Браслеты не носили». Практиковалось пришивание к личному гребню (расчёске) сосуда с ртутью. Подобные гребни ныне хранятся в МАЗ (коллекция А.В. Журавского). Ртуть в мешочке пришивали к косникам или нательным крестам и носили на протяжении всей жизни. Обережными свойствами обладала иголка со сломанным ушком, которую закалывали острием вниз в подол сарафана.
В зажиточных семьях женщины носили серёжки (чуски), кольца, запонки; мужчины – большие кресты поверх рубах, перстни. Из шейных украшений использовались широкие цепочки (прежны цепи), которые различались в названиях по количеству колец в ряду (четырёхколечные, пятиконечные, шести- и семиколечные), передававшиеся по наследству, одновременно надевали по две-три таких цепи и одну тонкую цепочку, которую завязывали узлом; ворот рубахи крепили дутыми медными и бронзовыми запонками или пуговицами, которые начищали до блеска.
Согласно сведениям С.В. Мартынова, ранее оберегов было еще больше: «…на шею молодых надевали рыбачью сеть с узлами и втыкали в одежду невесты девять булавок, то и другое в качестве амулетов от нечистой силы»; «замок и узел как символ силы слова получают значение запрещения, уничтожения порчи». Надёжным средством защиты был пояс.
§ 3. Девишник
Длительность девишника зависела от продолжительности предсвадебного периода. Когда играли «длинную» свадьбу, время от просвататнья до свадьбы охватывало две-три недели, девишник устраивался в последнюю неделю; при короткой свадьбе – один день.
После рукобития жених и невеста освобождались от домашних дел, участвовали в развлечениях. Прежде всего, выбирали себе дружек и золовок, которые должны были всюду сопровождать молодых. По П.С. Богословскому, в качестве чинов, включая дружек, приглашали представителей женатой части деревенского коллектива. Известно, что в центральных областях России при выборе дружек учитывались такие качества, как родовитость, социальное положение, что свидетельствовало о весомости этого чина; не меньшее значение придавали красноречию, общительности, смелости, находчивости и т.д. Устьцилёмы дружек выбирали из х о л о с т ы х ребят, знающих обряд, веселых и находчивых. Такой подход к выбору можно объяснить двумя причинами конфессионального порядка: «старческий» статус женатого человека и противопоставление церковно-православной традиции. По С.В. Максимову, в середине XIX века свадьбы играли сразу после сватовства: «На смотринах этих творят и рукобитье, и назначают день свадьбы, но не откладывают его на долгий срок. Промысловый народ, весь без исключения, не любит разводить пиры по обычаю приволжских губерний, особенно устьцилёмы, у которых всякий грош на счету и решительно нет ни одного лишнего. На другой же день, рано утром, выбираются дружки из тех ребят, у которых есть синие кафтаны; у женихова на правом плече нашивают ленты, у невестина дружки – на левом: оба в тот же день ходят сзывать по домам родных и знакомых на завтрашнюю свадьбу». По сведениям информантов, приглашение к участию в свадебном обряде невеста выражала и через повязывание красных платков на шею дружек (одирки); пришивание к рукавам кафтанов алых лент. Предпочтение ребят, имевших синие кафтаны, связывалось с представлениями об обязательности наличия таких кафтанов в гардеробе добропорядочных мужчин. Вероятно, на основе этих представлений возникла поговорка «Пуст карман, да синь кафтан» – о не богатых, но порядочных людях. Золовками могли стать как подруги девушки, так и реальные золовки – сёстры жениха.
В селах Усть-Цильма и Бугаево зафиксированы устойчивые тексты приглашения деревенских жителей на свадьбу: «Ваша судьба (имя отчество) быть у нас в таком-то дню и часу».
В предсвадебный период сельские жители внимательно следили и интересовались жизнью девушки: спрашивали у родных, с радостью ли идёт она замуж, обойдутся ли своим хозяйством или будут брать помощь соседей/родных. Имелся в виду обычай «занимать» у соседей свадебную одежду для невесты, если семья была не в состоянии сама её справить. Следили, чтобы девушка не оставалась в одиночестве, а проводила время в кругу подруг, с которыми готовила приданое и подарки, или прогуливалась по улице. Запрет объяснялся уязвимым положением невесты и возможностью её сглаза.
Важное место в предсвадебной неделе занимали голошения. Если замужество предполагало переезд в другую деревню, девушки обходили места гуляний, где невеста, прощаясь, приплакивала. Ещё в первой трети XX в. сохранялась традиция плачей на кладбище, если невеста была сиротой; в окружении тёток она ходила плакать на могилы, оповещала родителей о замужестве и просила благословения.
Особого внимания заслуживает девишник, который собирала невеста в доме своих родителей в предсвадебную неделю или, в зависимости от скоротечности свадьбы, – накануне, где парни и девушки прощались с женихом и невестой, устраивая шумные развлечения: игрища, танцы, песнопения. Девишник был наполнен драматизмом. Во все предсвадебные дни невеста прощалась со своей вольной девичьей жизнью и благословлялась в кругу родственников, односельчан в новую (замужнюю) жизнь.
Как и повсеместно, период жизни девушки – совершеннолетие – было самым лучшим в её жизни, в печорских селениях называлось красованье. «Дивья жить житьё девичьё, да красованье», – поётся в одной из песен. Н.П. Колпакова отмечает: «“Воля” и “красота” по своей функции в обрядовой лирике очень близки друг к другу и конкретизируются в различных аспектах. Чаще всего “воля” предстаёт в облике девушки – не то подруги, не то двойника невесты»:
Прости моя да воля вольная,
Прости моя да девья красота,
Ты лети моя да во чисто поле,
Пусть не дуют вас да ветры буйные,
Не примочат вас дожди мокрые,
Ты садись моя да девья красота,
Край пути да край дорожечки,
На баску белу да на берёзоньку,
На баску белу да кудрявую.
Символом красоты девушки была коса, а невеста поэтически сравнивалась с берёзой: «раскудрявой», «кудреватой», «белой». С этим образом соотносились её беззаботная жизнь в родительском доме, лучшие годы жизни. Упоминание берёзки в причетах вполне естественно, поскольку дерево в русском свадебном обряде занимает значительное место: в последней девичьей бане невеста парится берёзовым веником, на который и «садится» её «красота», в дальнейшем веник девушки-подружки используют в гадании о замужестве; в настоящее время некоторые молодожёны сажают берёзку в день свадьбы во дворе жениха, рядом с домом.
Прощание с девичеством происходило ритуализированно, выразительными средствами были душераздирающие плачи невесты и её матери/бабки в кругу семьи и распевание песен с игрищами в кругу молодёжи. В культуре устьцилёмов не выявлено специальной одежды, в которой невеста проводила последние девичьи дни, наполненные переживанием перед замужеством, тогда как особая траурная одежда, называвшаяся «печальная», выявлена в ряде мест Архангельской губернии: рубаха, в которой причитала невеста, называлась «убивальница», головной убор – «плачея».
Плачи звучали днём, вечерний досуг был наполнен радостью, песнями, «кружаньями». Парни катали девушек на лошадях, запряжённых в сани с расписными дугами и колокольчиками. Катания являлись одной из форм официального оглашения брака, а также свидетельствовали о размахе свадьбы.
Особенностью девичника был совместный ночлег. Все участники укладывались спать на полу на расстелённых оленьих шкурах, если позволяли условия, то девушки располагались на кроватях, парни – на полу. Совместное пребывание сопровождалось ритуальным озорством, исполнителем которого был обязательно посторонний, чаще пожилой, человек, не участвовавший в гулянии. Он пришивал парня к девушке за край одежды (вар.: пришивали за одежду к шкуре), мазал заснувших сажей и т.д. Подчеркивая эротичность забав, проходивших на девишнике, некоторые информаторы добавляли: «Ране говорили, щщо нова (некоторая – ТД.) девка тут и забрюхатет», и в этом случае осуждение со стороны жителей было менее суровым; другие – категорически отрицали интимную близость молодёжи до брака, поясняя «ек-mo не грешили».
В обязанности жениха на предсвадебной неделе входило ежедневное посещение невесты и одаривание гостинцами, состоящими чаще из выпечки и сладостей. Из ритуалов, связанных с переходом жениха в группу женатых мужчин, зафиксирован парнишник, устраиваемый женихом в родительском доме вечером накануне свадьбы. Участники выпивали, шутили над ним, а в завершение вечера все шли в дом невесты. Жених дарил ей на блюде подарок – зеркало, мыло, расческу, конфеты, который накрывали белым платком. Передавая подарок, жених наступал правой ногой на обе ноги невесты, как бы обращая её внимание на подарок, что вместе с тем было знаком его семейного главенства, и убирал платок. За подарок девушка угощала своего избранника и всех его друзей по стакану браги.
Случались и курьёзы: девушки в период девишника собирались и сугубо девичьим коллективом, иногда в бане; пели песни, пировали. Парни, узнавшие об их сборе, могли подшутить над ними, например, спугнуть, чтобы продолжить «столованье» уже в своём кругу: «Когда ле дедя Ваня рассказьвал. До революции ещё. Девушки собрались в бане на девичнике, бражку взяли, шаньги, сидят с подружкой прошшаюцце. Ребята пришли, стали потолок сдымать. Девки испугались, убежали, бражку и всё оставили. Прибежали домой, говорят пужат. А это ребетишки были. Им то и надо было, чтобы девки бражку оставили». Подобное озорство воспринималось сельскими жителями с юмором и не являлось нарушением обряда.
§ 4. Свадьба
Свадебный день в доме невесты
С раннего утра здесь звучали плачи, причитали подружки, мать, бабка невесты. Близкие (заветные) подружки, в течение суток находившиеся неотлучно с невестой, заплетали ей косу, туго перевивая пряди и, перешивая их нитками, чтобы затруднить расплетение косы и тем самым как бы продлевали «волю» девушки. Сведений о том, что делали с нитью после расплетения косы, не сохранилось, её могли использовать с различными целями; в контексте свадебной обрядности нити придавалось большое значение как символу пути, судьбы. Затем невесту накрывали реднинным или репсовым платком и сажали в кут, где она ожидала прихода крёстной (хрёсна), гостей; здесь звучали заручения. По полевым материалам, расплетение косы и заручение проходило как в кругу членов семьи, так и в присутствии дальних родственников, которые приходили в дом к полудню. Гости обязательно подходили к невесте и дарили подарок – принос – ткань на сарафан или рукава, принимая подарок, девушка с поклоном в плаче благодарила и приглашала в последний раз «побеседовать» в родительском доме:
1. Приходи-ко да ты, пожалуйста,
Честна звана да мила гостьюшка,
Уж ты ласкова моя Ивановна,
Ко моему-то горы высокому,
Ко матери да ко родимоей,
Ко братьям да ясным соколам,
Ко сестрам да белым лебедям,
Ко мне бедной да ко злочастноей,
Посидеть да побеседовать.
2. Приходит-ко да мой, пожалуйста,
Любозванный да честной гостюшка,
Ласковой да мой ли дядюшка,
Ко моему то ли горы высокому,
К опорождённой да бедной матушке,
Затем ко мне бедной злосчастной,
Ко невесте да заручённоей,
Ко княгине да прослезённоей,
Ко распущенной да трубчатой косе.
Посидеть да побеседовать,
Поисть, попить, покушати,
Что случилося да пригодилося
У моего то горы высокого,
Птицы пташицы да не настрелены,
Свежа рыба да не наловлена,
Чё случилося да пригодилося,
У нудного да малоскудного,
Не у богатого да не у славного,
Приходитко мой, пожалуйста,
Уж ты ласкова моя ли тётушка,
Ласкова моя жалостлива,
Ко моему то гору высокому,
К опорождённой моей матери,
Затим ко мне бедной да ко злосчастной,
Ко невесте да заручённоей,
Ко княгине да прослезённоей,
Ко распущенной трубчатой косе,
Ко моему то да милу брателку,
Ко моей то да белой лебеди,
Не случилося, не пригодилося,
Поесть, попить, покушати.
Приходитко со мой, пожалуйста,
Родитель мой да милый брателко,
Чесно званый да любой гостьюшко,
Со княгиней да молодой женой,
Богоданной да милой сестрицей,
Ко моему то горы высокому,
К опорожнённой да бедной матери,
Затем ко мне бедной да ко злосчастной,
Ко невесте да заручённоей,
Ко княгине да прослезёноей,
Ко распущенной да трубчатой косе,
Посидеть да побеседовать.
Распространёнными были ответные голошения, представленные диалогами. Чаще на плач невесты отвечали родные, например, тётки.
Ответный плач тётки:
Ты любимая моя племяненка,
Ты бросаешься моя, кидаешься,
Ты на чё наша да ты обзарилась,
Ты на чё да обзадорилась,
Молодёхонька да зеленёхонька
У родных своих да не спросилася,
Отцу-матери да не сказалася,
Ты дала свою да руку правую,
Ты дала удалому да добру молодцу,
Ты обзарилась да обзадорилась,
Ты за умного, да за разумного,
Ты за тихого да за смиреного.
Плач невесты:
Ты ласкова да моя тётушка,
Я ходила к тебе почасту,
Я сидела у тя подолгу,
Говорили мы с тобой подолгу,
Я тебе бедна да не сказалася,
Я тебе бедна да не спросилася,
Ты не сердись-ко тогда да не гневайся.
Ритуальным языком общения на свадьбе в доме невесты было голошение, отражавшее переходность обряда, его кульминационный этап, наполненный драматизмом происходящего. В плаче воссоздавались различные моменты, передававшие личностные переживания невесты и её ближайшего окружения, звучали ритуальные напутствия девушки в замужнюю жизнь. По рассказам информантов, некоторые девушки ревели до полусознания, особенно, если им предстоял переезд на проживание в дальнюю деревню. Были и такие, которые не умели плакать, за них приплакивала посторонняя женщина: «Некоторы девки не умели плакать голосом. Сидят, за их друга жонка приплакиват. Иногод девка радуецце, шшо замуж выходит в свою деревню, да за люба парня, с которым дружилась, дэк смеецце сидит. Ей шшыплют: плачь, плачь… всяко было. А нова опеть рёвом ревёт, убиваецце. Так ту ревели боле ковда за нелюбого парня отдавали».
К каждому гостю невеста обращалась в причете, сообщая о себе как о «бедной, злосчастной», что с одной стороны отражало горе из-за её ухода из родительского дома, с другой, – неопределённость жизни в замужестве. В некоторых текстах-обращениях перечисляется родня невесты: «матерь родимая», отец – «гора высокая», братья – «ясны соколы», сёстры «белы лебеди», этим приёмом усиливается трагизм положения невесты, проводившей в родительском доме последние часы. В обращении к гостям повторяемыми формулами являются приглашение к столу: «Посидеть да побеседовать, / Поесть, попить, покушати». Важным моментом в плаче является указание на её заручение и расплетение косы, как обязательного акта обряда – расставания невесты с «девьей красотой», воплощённой в косе: «Ко невесте да заручённоей, / Ко княгине да прослезённоей, / Ко распущенной да трубчатой косе». По народным сведениям оно было растяжимым – от момента расплетения косы, бывало и ранее, до возвращения невесты из бани. Т.С. Канева обратила внимание на то, что в плаче связка «невеста заручёная, княгиня прослезёная» встречается исключительно в усть-цилёмских текстах, образование которой обуславливается особенностями местной эпической стилистики. Обоснованность использования слова «прослезёная» автор объясняет локальной усть-цилёмской традицией, закрепившей «в фольклорном тексте смысл специфического обрядового термина: заручение как «слезение» – оголашивание невесты». Шире – формула «заручение – слезение», подкреплявшаяся «распущенной трубчатой косой» отражала действенность проведения обряда, подтверждением тому у пижемцев являлся приезд одной из ближайших тёток или золовки, которая дождавшись заручения и расплетения косы, убедившись в точности проведения обряда, возвращала невесте от жениха задаток, подаренный ею до сватовства, и возвращалась в дом жениха с известием о состоявшемся действе.
Плачи были наполнены различными метафорическими заменами, которыми поэтически воспроизводилась обрядовая ситуация и её особенности. В плаче невесты несвоевременность свадьбы, связанная с её юным возрастом, подчёркивается общей неготовностью родителей к пиру: «Птицы пташицы да не настрелены, свежа рыба да не наловлена», а себя она лирически сравнивает с цветами/ягодами, не набравшими полную силу:
Я м о л о д ё х о н ь к а да з е л е н ё х о н ь к а,
Я н а в ы х о д е да ш ё л к о в а т р а в а,
Н а р а с ц в е т е т р а в а л а з у р е в а,
Я в поле ц в е т о к да н е п о в ы ц в е л а,
Кусту я г о д а да н е п о в ы з р е л а,
Я не в полном да в большем возрасте,
Я не в крепком да в уме-разуме,
Молодёхонька да зеленёхонька.
Тексты плачей, исполняемые матерями, – заручения – в целом идентичны, их условно можно разделить на две части: описание беззаботной жизни дочери в родительском доме, хотя и наполненной трудом – «бела света не видела», «русу косу не наростила», или полный возраст дочери-невесты, сравниваемый со спелостью ягод/плодов – «ягодка петровская», «репочка ильинская»; почти в каждом из зафиксированных мной текстов сообщается о трудолюбии дочери, её неизбалованности. Вторая часть – собственно заручение, которым напутствуют девушку в замужество, сравниваемое с чужой стороной. Замужество предпопагало безвозвратность пути невесты, даже в случае её раннего вдовства – вторично выдавала замуж уже свекровь. Необратимость пути сравнивается в текстах с «дальней стороной», где «за лесами дремучимих», «за горами высокими», «за речками быстрыми», «за ручьями пригрубыми», дочери предстоят в отличие от девичьего «житья-красованья» суровые испытания – «жить позориться», «унижаться», «всех надо уважити, от старого и до малого»; в этот дальний край «не прилетит письмо-грамотка от родных родителей» этим подчёркивается и то, что в новой семье ей придётся рассчитывать только на свои силы. В текстах жизнь в замужестве сравнивается с тяжёлой работой в отличие от девичьего «житья-красованья». Заручения происходили до и после расплетения косы, их исполнителями были мать, бабушка, крёстная.
Варианты и фрагменты заручений:
1. Уж ты девушка да голубушка,
Б е л а с в е т а да т ы н е в и д е л а,
Р у с у к о с у да н е н а р о с т и л а,
В с ы р у — м а с л е да н е к у п а л а с я,
Н е у г у л е н о было да н е у х о ж е н о.
2. Ты голубушка, моя белянушка,
Ты куда моя да ты снаряжаешься?
Ты к у д а моя да с п о д о б л я е ш ь с я?
На каку моя дело р а б о т ё н ь к у?
Ты ж и л а у меня да к р а с о в а л а с я,
К а к в о с ы р в м а с л е да ты к у п а л а с я,
Те поскучило шибко ж и т ь ё д е в ь е,
Напрокучило да б е с п е ч а л ь н о е,
Ты сама больша была да сама маленька,
В о л я у тя была н е у н я т а,
Г р о з а была да т е б е н е д а н а,
От горы тебе да от высокоей,
От матери да от родимоей.
3. Дорого моё да чадо милое.
Дорога моя дитя сердечная.
Уж ты походишь ты да во чужи люди,
Во чужи люди да незнакомые,
Не с родными да родителями.
Не с отцом да все с родной матерью.
Как ладу м у ж у да надо у н о р а в л и в а т ь.
У н о р а в л и в а т ь да п о п я т а м х о д и т ь.
К а к о б в я ж у т тебя да д е т и м а л ы е,
З а м о т а е ш ь с я да з а п о з о р и ш ь с я.
К а к с в я ж у т у т е б я да р у к и белые.
Н и к т о т е б е н е п о м о ж е т уж,
Не в одной деревни да не у матери.
За лесами будешь да за дремучими,
За горами будешь да за высокими,
За речками будешь да за быстрыми,
За ручьями будешь да за пригрубыми.
Не пролетит туда да птичка пташечка,
Не принесёт тебе да письма грамотки
От своих-то ле да от родных родителей,
Из своего-то да из вита гнезда,
Из своего-то да золота кольца,
От своих не то да от родных сестёр,
От дружных-то ле да от подружечек.
4. Уходишь во большу семью,
Во чужу семью, да незнакомую.
За другу реку, да за широкую.
У г о ж д а т ь надо с в ё к р у — б а т ю ш к е,
У г о ж д а т ь надо с в е к р о в ы — м а т у ш к и.
П р и н о р а в л и в а т ь надо д е в е р ь ю ш к а м.
У н и ж а т ь с я надо з о л о в у ш к а м.
5. Уж ты девушка да красавица,
Уж уходишь ты да во чужу семью
Во чужу семью да во большу семью, да порядовую,
За другую реку за широкую,
Угождать надо да свёкру батюшке,
Угождать надо да свекрови мутушке,
Пригоравливать надо деверьюшкам,
Унижаться надо золовушкам.
6. Высоко взнялось да красно солнышко.
Ты бросаешься да ты кидаешься,
За чужа сына да за отеческого.
С крута бережка да в мать быстру реку.
В ч у ж и х л ю д я х надо ж и т ь у м е ю ч и,
Надо п о н и ж е быть да шёлковой т р а в ы,
А уж п о т и ш е быть да ключевой в о д ы,
О т с т а р о г о да д о м а л о г о,
У ж в с е м н а д о да у в а ж и т и.
7. Уж ты девушка да голубушка,
Бела света да ты не видела,
Русу косу да не наростила,
В сыру-масле да не купалася,
Не угулено было да не ухожено.
Тебе чё моя шипко наскучило?
Тебе чё наша да приневолило?
Тебе-то наша да видно понравилсэ
Молодой парень да доброй молодец.
8. Дорогая моя дочь любимая,
Шибко жалимая,
Лебедь белая, моя ненаглядная.
Ты бросаешь нас с отцом, с матерью,
Ты уходишь во чужу деревню,
Во другу семью, незнакомую.
В о к а к у с е м ь ю п о п а д ё ш ь ты?
В о б о л ь ш у с е м ь ю н е с о г л а с н у.
П о ч и т а й о т ц а, с в ё к р а — б а т ю ш к у,
П о ч и т а й с в е к р о в ь как р о д н у м а т у ш к у.
П о л ю б и з о л о в о к как с е с т ё р р о д н ы х,
У в а ж а й д е в е р е в как р о д н ы х б р а т ь ё в.
П о ч и т а й и л ю б и м у ж а, л а д о м и л о г о,
Д у м у к р е п к о г о, г о р у в ы с о к у ю.
Ты встречай его да словом ласковым,
Провожай его всегда с улыбкой.
Ты всегда у него будешь жена любимая.
9. Голубушка моя белянушка,
Дорого мое да чадо милое,
П о х о д и ш ь т ы да в о ч у ж и л ю д и.
В ч у ж и х л ю д я х н а д о ж и т ь у м е ю ч и,
Умеючи да разумеючи.
В с т а в а т ь н а д о да п о у т р у р а н о,
С п а т ь н а д о – н е п р о с ы п а т и.
Х о д и т ь н а д о – н е п р о х а ж и в а т ь.
Робила ты да все делала,
Помогала ты мне дороги делати.
Уж слуга ты моя да верная,
Ты слуга моя да благочестная.
10. Ты голубушка (имя, отчество), моя белянушка,
Восподарена да лебедь белая,
Ты куда наша, бедна, бросаешься?
Ты куда наша, бедна, кидаешься?
Ты на чё, наша, да обзадорилась?
Ты на чё, наша, да т а к п о з а р и л а с ь?
З а т ё м н ы е л е с а да з а д р е м у ч и е,
З а б о л о т а т ы да з а д ы б у ч и е,
З а о з ё р а т ы да п л а в у ч и е.
Где н е х о д я т т а м да л ю д и д о б р ы е,
Где не ездят да православные.
Т о л ь к о х о д я т т а м да з в е р и л ю т ы е,
З в е р и л ю т ы е, л е с н ы х о з я е в а.
К тебе горой е х а т ь – надо д о б р а к о н я,
Добра лошадь да бегучая,
К тебе водой е х а т ь – надо н о в а л о д к а,
Нова лодка – да недержана.
11. Т ы я г о д к а, д а п е т р о в с к а я,
Т ы р е п о ч к а, да и л ь и н с к а я.
Ты куда шипко поторопилася?
С крута бережка, да спустилася.
Во быстру реку, да во матушку.
С жарка пламени, да в ледяну воду.
12. Ты голубушка, моя белянушка.
Дорога моя да лебедь белая.
Дорога моя дочи любимая.
Дорога моя да ты последняя.
Ты куды моя да собираешься?
Ты куды моя да наряжаешься?
Во чужи люди да незнакомые.
За чужого ты да добра молодца,
За чужого ты сына отецкого.
Во ч у ж и х л ю д я х надо ж и т ь у м е ю ч и.
Молодожёны Георгий Панфилович и Хевронья Никитична Дуркины. Ф.Н. Дуркина – известная в прошлом в с. Усть-Цильма исполнительница плачей. 1950-е годы. Из семейного альбома М.Г. Ясинской.
П о х о д и т ь тебе да надо с п р а ш и в а т ь.
П р и х о д и т ь тебе да надо с к а з ы в а т ь.
Н а з ы в а т ь тебе надо да всех п о и м е н и.
В е л и ч а т ь надо да с п о и з в о д ч и н ы.
Ты пониже быть да шёлковой травы.
Ты потише быть да ключевой воды.
В устьцилёмском ритуале расплетения косы знаковым было время его проведения – полдень, закрывание невесты платком и её сидение на крышке погреба, служившей перекрытием хода в подполье. В обыденной жизни на крышке запрещалось стоять без надобности или играть детям (см.: о хтонической символике подпола/погреба). Нахождение же невесты на крышке погреба символизирует её пограничное состояние. По другим сведениям, расплетали косу под матицей. Исполнительницей обряда была крёстная, в её отсутствии – ближайшая тётка. Как и повсеместно, невеста «пыталась» изъять косу из рук крестной, в приплакивании она упрашивала не отдавать её замуж.
Невеста крестной:
1. Кормилица моя да крёстна матушка,
Не расплетай мою да трубчату косу.
Не отымай мою волю вольную,
Не отдавай меня за чужа сына,
За чужа сына да за отецкого,
За мужски плечи да за аршинные,
За жёлты кудри да за молодецкие,
За бело лицо да румяное.
В это время крёстная, встаёт к печке (см.: о символике печи), оплакивает невесту:
Я стану да ко жаркой печи,
На гладки полы да на еловые,
На часты мелки да перекладинки,
Разодвинтесь-ко да люди добрые,
Уж вы дочери да все отецкие,
Уж вы жёны да все мужние,
Уж вы дайте мне пути-дорожечки,
Мне не долгоей да не широкоей,
Ко невесты да заручёноей,
Ко княгине, да прослезёноей,
Распустить ейну да трубчату косу,
По единому да русу волосу.
Крёстная подходит к самой невесте и продолжает оплакивать и расплетать косу:
Ты голубушка моя бедянушка,
Восприёмно да моё дитятко,
Расплету твою да трубчатку косу,
По единому да русу волосу,
Я повыплету да ленты алые,
Ленты алые семишёлковые,
Семишёлковые да семиразные,
Заморецких шелков запрацкиих,
Восприёмно моё да дитятко
Ты не сердись на меня да не гневайся,
Расплела твою да трубчату косу,
Не сама да я это сделала,
Приказал твой гора высокая,
Меня заставила мати родимая.
Невеста крестной:
Не спасибо, тебе да добра матушка,
Расплела мою да трубчату косу
Ты сняла с меня да девью красоту,
Отняла мою да волю вольную.
После расплетения косы начинали плакать подружки невесты:
2. Ты дружна мила, моя подружечка,
Задушевная да мила первая,
Мы парилися с тобой, дружилися,
Мы одну думу да с тобой думали,
Мы в одно слово да с тобой падали,
Никому от нас было невыносно,
Мы ходили везде да ездили
На горочки да на катушечки,
По зимней пути-дорожечке,
На добрых конях да на езжалыих,
По зимней пути-дороженьке,
Нас возили с тобой удалы добры молодцы,
Звали нас да всё задорились,
Не хотели мы да разлучатися,
Не хотели мы да распаритися
Ты бросаешься бедна, кидаешься,
С крута бережка да в мать быстру реку,
Из жарка огня да полы полымя,
За чужа сына да за отецкого,
За одиноково да за богатого,
Одиноки-те живут всякие,
Новы пьющие живут, матущие,
Гулячие живут, ходячие,
Матерливые живут, журливые.
Когда охватишься ты лебедь белая,
Тогда охватишься да не воротишься,
Приходите-ка да дружки вежливы,
Сыновья дружки да вы счастливы.
3. Ты дружна была моя подружечка,
Ты дружна была задушевная,
Я ходила к вам да бедна почасту,
Я сидела да у вас подолгу,
У нас две было да буйных головы,
У нас одно было да ретиво сердцо,
Мы одну с тобой да думу думали,
Мы одно слово да с тобой молвили,
Мы тайно слово с тобой невыносно.
Ты дружна моя подружечка,
Ты дружна да задушевная,
Ты скажи-ка мне бедной, пожалуйста
Сама ли ты да моя вздумала,
Сама ли да поохотила,
Иль отдават тебя гора высокая,
Иль заставлят тебя мати родимая?
Ты чё да наша обзарилась,
Ты на чё да обзадорилась,
На житьё-бытьё да на имущество
Иль на удалого да добра молодца
На еговы то да на мужские плечи,
На мужски плечи да на аршинные,
На жёлты кудри да молодецкие,
На егово-то на баско лицо,
На баско лицо да на румяное,
Иль на бело тело да на бумажное,
На баски глаза да развесёлые.
Ты дружна моя подружечка,
Ты дружна да задушевная,
Ты жила да красовалася,
Как сыр в масле жила, купалася,
У своего-то горы высокоей.
У своего-то стены каменноей,
У матери да у родимоей.
У жалости да у сердешноей,
Тебе воля была не унята,
Тебе больша гроза не придана,
Ты ходила да везде ездила
По весёлым да большим праздникам,
По христовым да воскресенским,
По горочкам да покатушечкам.
Ты наряжалася да одевалася.
На завидность да людям добрыим,
На зависимость да православныим.
У тя много есть да цветных платьей,
У тя много есть де переменных,
Ты последний раз сидишь, красуешься,
Во своём-то да во витом гнезде,
Во своём-то да золотом кольце,
На своей-то да воле вольноей,
Во своей-то да девьей красоты,
Ты уйдёшь наша да во чужи люди,
Во чужи люди да за чужа сына,
Ты объявишься да детьми малыми,
Детьми малыми да детьми глупыми,
Они свяжут твои да руки белые,
Скуют твои да ноги резвые,
Скрадут твои пути-дороженьки,
Твоё лежать будет цветно платье,
И не пойдёт на ум тогда весельице,
Не оннако да замуж выйдется,
Не оннако да муж навернется,
/Не камешек на бережку, не выберешь.
4. Уж ты дружна ближна подружечка,
Уж ты подружечка да красна девица,
Уж уходишь ты на чужу сторону,
В чужих людях надо жить умеючи,
Ходить надо да не прохаживать,
Глядеть надо да не проглядывать,
Говорить надо не проговаривать,
Ходить надо по полуполовичке,
Глядеть надо по полуглазку,
Говорить по полуязычку.
Уж ты дружна наша да порядовая,
Дивья жить да житьё девичье,
Житьё девичье да красованье,
Не одинаково да замуж выйдется,
Не одинаково да муж навернется.
В плачах-прощаниях подруг звучат воспоминания об их девичьей дружбе, наполненной взаимным доверием: «Мы одну думу да с тобой думали, / Мы в одно слово да с тобой падали, / Никому от нас было невыосно»; «У нас две было да буйных головы, / У нас одно было да ретиво сердцо, / Мы одну с тобой да думу думали, / Мы одно слово да с тобой молвили, / Мы тайно слово с тобой невыносно». Подруги сокрушаются о завершении вольной девичьей жизни невесты и печалятся о предстоящей замужней, в которой предстояло «обвязаться детьми малыми», которые «скуют ноги резвые», «скрадут пути-дороженьки»; не придётся думать «о гуляночках», «лежать будет цветно платье, / и не пойдёт на ум тогда весельице». Жизнь в замужестве предвещалась безрадостной, наполненной житейскими заботами. Подруги напутствуют её в семейную жизнь, где положение молодки предполагается бесправным: «Ходить надо да не прохаживать, / Глядеть надо да не проглядывать, / Говорить надо не проговаривать, / Ходить надо по полуполовичке, / Глядеть надо пополу глазку, / Говорить по полуязычку».
Важнейшим элементом свадебного утра была «баня», где совершался один из ритуалов, связанных с переходом невесты в новую жизнь в замужестве. С ней связывалось также «программирование» семейной жизни молодых, в частности, протапливание бани требовало чрезвычайной осторожности, в процессе которого соблюдалось множество различных магических действий. Например, устьцилёмы брали чётное количество поленьев, чтобы жизнь была богатой, благополучной; старались неспешно и аккуратно ворошить дрова в печке, чтобы муж был ласков с женой: «Ране так говаривали: круто перемешают дрова дек мужик дерибоватый будет, а потихоньку дек то и не будет женку бить»; кроме того, этот способ обеспечивал ровное прогорание дров, означавшее долгую и счастливую жизнь молодым. «Банный» ритуал был следующим: после расплетения косы, подруги накидывали на голову невесты тот же плат, которым она была покрыта, и в плаче приглашали её в баню, где продолжались заручения. Т.С. Канева выявила около 40 текстов причетов «банной» тематики, разных по объёму, разновремённой фиксации, большая часть которых относится к последним десятилетиям ХХ века. Сравнивая усть-цилёмские причитания «банной» тематики с подобными плачами из других традиций исследователь пишет: «Наиболее близкими по набору сюжетных мотивов и по поэтическим формам их реализации («подробностям изложения») являются
территориально близкие традиции Мезени – в первую очередь Лешуконского, а также Мезенского районов Архангельской области, что можно рассматривать как развитие темы сходства этих северно-восточных архангельских традиций. <…> Практически не отличаясь оригинальными мотивами и формулами от других севернорусских вариантов, усть-цилёмская традиция тот “минимум” фольклорного текста невестиной бани, который был необходим для поддержания ритуала». Участниками «банного» обряда были крёстная, невеста и её подружки, которые в плаче приглашали невесту в баню. Привожу свои полевые записи текстов и неопубликованные, собранные В.Г. Базановым и А. Разумовой:
1. Мы откроем-ко двери на пяты,
Мы поставим-ко двери на крюки.
На гладки полы да на еловые,
Разодвиньтесь-ко да люди добрые,
Люди добрые да православные.
Уж вы девушки да красные,
Уж вы молодушки да замужние,
Уж вы вдовушки да благочестные.
Дайте нам пути-дорожечки
Ко невесте нам да заручёной,
Ко княжне нам ле преслезёной.
Ты позволь с нами простоволосая,
Ты позволь же в парну баянку,
Ты ле помыться с нами да попариться,
Уж ты смыть с лица да горючи слёзы.
2. Уж мы станем ли на гладки полы,
На часты мелки да перекладины,
И возьмём мы да двери за скобы,
Откроем мы да двери на пяты.
Наперёд ступим да ногой правою,
А затем ступим ногой левою.
Разодвинтесь вы да добры молодцы.
Разодвинтесь вы да красны девицы.
Уж вы дайте нам пути-дороженьки.
Истопили мы да парну баенку,
Заготовили да сини щёлоки,
Заготовили мыла заморские.
3. От баенки да от парной,
Эй, истоплена, ах да парна баенка,
Ох, да парённый, ой, да липов веничек,
Ох, нагрето у нас, ах да сине щёлоку.
Ой, да пошли мы, да ко виту гнезду,
Взошли мы, ой, да на круто крыльцо,
Ох, берём мы да за вито кольцо,
Ох, отворяем мы да двери на пяты,
Переходим мы да мелки перекладины,
Ой, заходим мы да во новы сени,
Вызываем мы да Марью в баенку;
Мы истопили тебе да парну баенку.
Плач невесты подругам:
4. Разодвиньтесь-ко да люди добрые,
На четыре все да дальни стороны,
Уж вы дайте-ко пути-дорожечки
Дружным моим милым подружечкам,
Дружным, милым да задушевным.
За спасибо ли дружны подружечки,
Истопили нам да парну баеньку,
Вы наделали да парну щёлоку,
Заправили мыла заморского,
Напарили да парных веников,
Мне помыться сходить, бедной, попариться,
Мне с о м ы т ь бедной да с о б е л а л и ц а,
Со бела лица да г о р е ч и с л ё з ы,
От ретива сердца т о с к у — к р у ч и н у ш к у.
5. Разодвиньтесь-ко да люди добрые,
Дайте мне п у т и — д о р о ж е ч к и,
Н е д о л г о й да н е ш и р о к о й
Во парну баянку во д е в ь ю,
Да в о п о с л е д н ю ю.
Крёстная невесты возглавляла шествие в баню, вслед за ней шли подруги, которые, по словам информантов, под руки в о л о к л и невесту, как бы неспособную к самостоятельному передвижению. Перед выходом из дома невеста обращалась к родителям, приглашая их в баню:
Кормилец мой, гора высокая,
Кормилец мой, мати родимая,
Вы родны мои да все родители,
Вы позвольте со мной да в парну баеньку,
Во девью да во последнюю.
Плач невесты по дороге в баню:
Вы раздвиньтесь-ко да люди добрые,
Дайте мне пути-дорожечки
Во парну ко мне во баинку,
Во девью да во последнюю».
Как и повсеместно у русских, мытье в бане было символическим и сопровождалось магическими действиями, призванными совершить переход невесты в замужнюю жизнь. Здесь крёстная в последний раз заручала крестницу в замужество, смывала с её лица «горечи слёзы» и снимала «девью красоту»: в наставлении «программировала» новую жизнь, тогда как некоторые восточные славяне прибегали к помощи знахаря. Девушки срывали с невесты одежду и бросали под полок, приговаривая:
Сымай рубаху девичью,
Всё девичье под полок бросай,
Ум свой вольный забывай.
В народной культуре разрывание/сжигание/разбрасывание одежды являлось важнейшим элементом акционального кода, которым достигалось избавление от недугов, негативных/нежелательных жизненных проявлений. В свадебном обряде этим приёмом окончательно снимали «красоту», срывание одежды символизировало разрыв с прежней беззаботной, вольной жизнью девушки. Остаётся невыясненным, что дальше делали с одеждой невесты? Хлестанием вениками и обливанием водой, с приговором: «С дерева роса, с (имярек) вся худоба», из неё изгоняли болезни, очищали от возможного сглаза». Т.С. Макашина, основываясь на чердынских материалах, связывает банный ритуал с отголоском древнейшего обряда бракосочетания невесты с духом бани – банником, которому она приносила в жертву свою девственность. Как известно, баня в семейных обрядах играет значительную роль: в ней человек рождался, переломный этап перехода невесты также завершался здесь, происходило символическое прощание и с банником рода, приносилась жертва посредством срывания одежды. В завершение невеста угощала подруг рыбниками, квасом и тут же дарила самой близкой из них свою девичью ленту, которой была завязана её коса перед ритуальным расплетением с пожеланием ей скорейшего замужества: «Раз уж ленту невеста ей подарила дек ей же видно надо было следующей свадебничать да накрытой платом-то быть». Участие в банном ритуале считалось для девушек почётным, к тому же по народным представлениям девственность невесты обладала магической силой, способной обеспечить благополучием всех, кто находился с ней рядом. По завершении обряда девушки выходили на улицу и гадали по веникам, которыми парили невесту: «Веники церес крышу девушки бросают, пойдут в баню с невестой; перекинеш – скоро взамуш выйдеш». Как и повсеместно, участие в обряде должно было способствовать скорейшему их выходу замуж.
Порядок возвращения из бани был следующим: первой шла невеста, следом – подруга, получившая в подарок ленту, далее шли остальные участницы обряда, и завершала шествие крёстная. Из бани невеста возвращалась э н е р г и ч н о й, уверенной походкой, демонстрируя свою силу и здоровье. Участников обряда сопровождали дети/подростки, выкрикивая «хулительные» насмешки, и припевая эротические припевки-частушки. Детское озорство объясняют сейчас традициями предков: «Так уж было у нас тут заведено; так наши отцы жили и делали. Детишам то не разрешали свадьбы смотреть дэк хошь на улице маленько».
На улице невеста совершала поклоны на четыре стороны, приговаривая: «Рассыпайся, баянка, да на четыре стороны, по одному бревнышку да на четыре стороны», и плакала:
Потяните-ко да ветры буйные,
Ты рассыпчата да парна-баенка,
По единому да по бревешечку,
Раскатися-ко да сера каменка,
По единому да серу камешку,
Я помылася да попарилась,
Не могла я смыть да со бела лица,
Со бела лица да горячи слёзы,
С ретива сердца да велику печаль.
Поклоны повторялись и на крыльце дома, где девушку встречали её родители: она становилась на колени и в поклонах благодарила:
За родного батюшку,
За родную матушку,
За здоровье велико,
За царство небесное.
Родители поднимали дочь и приглашали её пройти в дом, невеста в плаче благодарила отца за баню:
Ты спасибо мой гора высокая,
За жарки дрова да за еловые,
Я помылася хотя попарилась.
Я во парной да во паренке.
Я во девьей да во последнеей.
А кормилец мой, гора высокая,
Отдавашь меня да спихивашь,
Во чужи люди да за чужа сына,
За чужа сына за отецкого,
Уж я что тебе слишком наскучила,
Уж я что тебе да напрокучила,
Не сусек хлеба у тя повыела,
Не сундук платья у тя износила
Я молодёхонька да зеленёхонька,
Я на выходе да шёлкова трава,
На расцвете трава лазурева,
Я в поле цветок да не повыцвела,
Кусту ягода да не повызрела,
Я не в полном да в большем возрасте,
Я не в крепком да в уме-разуме,
Молодёхонька да зеленёхонька.
В плачах-обращениях к отцу звучат сокрушения: «уж я что тебе слишком наскучила», «не сусек хлеба у тя повыела, / не сундук платьев поизносила…», которые уместно рассмотреть в контексте отношения в русских семьях воззрения на дочерей как «бесполезных существ» (ср.: название новорождённой убойно жито букв. ‘напрасно загубленная жизнь’), к которым было недвусмысленное отношение. О девочках чаще говорили негативно, поскольку с малолетства для них необходимо было готовить приданое, о чём говорилось ранее. Дочь отрезанный ломоть, что она съест, то не вернётся в дом, – говорили в усть-цилёмских деревнях. В свадебном плаче дочь как бы оправдывалась за время, прожитое в родной семье, а выдачу замуж рассматривала как наказание «отдавашь да меня спихивашь, / во чужи люди да за чужа сына», словом, в новой семье к ней обращение могло быть более суровым.
Иногда после бани девушку уводили к соседям, откуда и происходил вывод её к жениху. По другим сведениям, невесту, накрытую платком, из бани также вели подруги, по возвращении она занимала то же место, где сидела при расплетении косы.
Заручение и баня составляют комплекс, который Т.А. Бернштам выделила в восточнославянский обряд «расставания с красотой», семантизирующий переход невесты в другой социальный статус, как символическую смерть и возрождение перед её отъездом к венцу.
В свадебное утро до приезда женихового поезда важнейшим актом был приезд дружек, трижды привозивших невесте от жениха «сладкие» подарки: конфеты, печенье и др. Информанты в рассказах о свадьбе затрудняются с ответом на вопрос: с какими этапами свадебного утра связывались их приезды, хотя уместно предположить, что визиты могли быть строго маркированными и связывались с конкретной обрядовой ситуацией. В знак благодарности невеста угощала их брагой. В каждый приезд дружки спрашивали: «Жива ли, здрава ли, молода наша княгиня?» Невеста им отвечала: «Жива я, здрава я». По другим данным, до приезда жениха по разу приезжали дружки и золовки, последние оставались в доме невесты до прибытия свадебного поезда, их угощали; каждая из них была богато украшена: «Вся в золоте, в штофнике» дарила невесте по рублю, добавляя: «От жениха». С их появлением крёстная начинала заплетать молодой две косы и приступала к её обряжению. Е. Перфецкий отмечает: «Нигде у русских кроме Усть-Цильмы нет обычая привозить золовок (в качестве послов-наблюдателей) в дом невесты накануне венчания. Возможно, этот обычай перенят усть-цилёмцами от соседей – ижемцев или остался в их свадьбе от обычая прежних насельников – коми». (Народ коми пришёл на Печёру из Пермского края уже после начала колонизации этих мест новгородцами. До новгородцев в районе устья реки Цильма жил народ чудь. Примечание Секретёва Сергея).
Несмотря на то, что в «банных» плачах звучит тезис о смывании там слёз невесты, она продолжала голосить и после возвращения в дом. К дальнейшим устойчивым действиям, сопровождавшимся плачем, относятся наряжение невесты, её благословление, о чём свидетельствуют тексты, записанные В.Г. Базановым в 1942 году в Усть-Цилёмском районе; невеста в родительском доме общалась с женихом и дружками исключительно посредством плача. Значение свадебных плачей полно отражено в научной литературе, следует лишь добавить, что оплакивания, безусловно, являлись важнейшим и необходимым способом очищения невесты (ср.: в погребальном обряде слёзное моление, как способ очищения души усопшего; бытовые плачи – облегчение общего состояния), её психологической подготовки к новой жизни. Тематика причитаний отражала различные стороны жизни девушки-невесты, главными из которых были сравнения беззаботного «житья-красованья» в родительском доме и беспокойное «житьё позоренье» в «чужой (мужниной) семье; заручение-расплетение косы – заплетение двух – обряды, связанные с переменой её статуса. В плаканьях просматривается и акциональный код – оставление горя в родительском доме, где необходимо было «наплакаться», оставить «грусть-кручинушку», получить напутствия с тем, чтобы в замужестве «за ладой милыим» жизнь складывалась успешно.
Обрядовые действия в доме жениха
По описанию Н.А. Шабунина, ещё в начале ХIХ века в доме жениха также проводились ритуальные приготовления, в том числе и «баня», которая протапливалась накануне. Перед уходом туда сына родители напутствовали: «Поди, посленний раз холостым вымойсе». Не исключено, что одиночное хождение жениха в баню является своеобразным отголоском испытания героя в неурочный час (поздний вечер – ночь) и «добывания» им чудесной супруги. После бани устраивали семейный стол.
Утром в день свадьбы жених самостоятельно наряжался. К полудню собирались приглашённые гости, из них выбирали поезжани двух дружек (если они не были выбраны ранее). Поезжане должны были сопровождать жениха в дороге за невестой и по необходимости оказывать ему помощь, а дружки, как уже говорилось, являлись связными между женихом и невестой, обеспечивали их безопасность при переезде в дом мужа. Обязательным атрибутом дружек было лукошко или большое деревянное блюдо (хлебень}, куда в день свадьбы клали небольшой каравай (хлебец) с вдавленной в него иконкой, солонку с солью и выпечку, чаще печенье в форме птиц – козули, шаньги с наливным верхом. После распределения ролей присутствующие совершали молитвы на благополучное завершение обряда, и родители жениха устраивали стол, в центре которого клали целую жареную рыбу, а каждому гостю на отдельном блюде готовили по ломтю хлеба с солью. Сват (вар.: тысяцкий), в обязанности которого входило угощение гостей, обносил поезжан брагой. По традиции, первая стопка полагалась отцу жениха, следующая – матери, далее остальным гостям. Жених в это время должен был молча стоять возле стола и кланяться каждому гостю. Его угощали в последнюю очередь, при этом свою стопку он лишь подносил к губам, и ставил обратно на стол. В это время остальные гости пели песни и веселились: холостая молодёжь отдельно от женатых – в соседней комнате или в сенях, а в летнюю пору на улице водила хороводы, принимая от поезжан угощение – выпечку со свадебного стола.
После непродолжительной трапезы следовал обряд благословения жениха. Мать или бабушка расстилали на полу, под матицей, обработанную шкуру оленя, а поезжане в это время рассаживались на лавки, расположенные вдоль стен. Родители стояли рядом с божницей, а жених, стоя на коленях на оленьей шкуре, обращался к ним с просьбой благословения:
– Татко, благослови меня, грешного.
– Божье и мое благословение, – отвечал отец и крестил сына три раза хлебом и иконой. После этого оба одновременно крестились. Следом благословляла мать. Если молодым предстояло венчание, то хлеб, которым благословляли родители, складывали в хлебницу и поручали тысяцкому, который вёз его в церковь и отдавал церковному сторожу.
В начале ХХ века некоторые элементы обряда, совершаемые в доме жениха, были изжиты: для поезжан трапезы не устраивалось, вместо благословения родители вместе с сыном клали «начало» или три поклона с Исусовой молитвой и отправлялись в дорогу. По традиции, первыми из дома выходили дружки с хлебом-солью и сват с крестом или иконой (образом) в руках, которую по двору несли впереди поезжан, следом шли тысяцкий, жених и сватья*, за нею – остальные участники обряда. Во дворе поезжане рассаживались по повозкам свадебного поезда, состоявшего из семи-девяти подвод. Поездка жениха за невестой связывается с трудным путешествием, сравниваемым с «иным» миром, в котором использование нечетного показателя является его приметой.
* Сваха, тётка жениха.
Возглавляли свадебный поезд дружки и золовки, верхом на лошадях. За ними на тройке лошадей, запряжённых в сани-карету или телегу, покрытые красным сукном или оленьей шкурой располагались жених – в центре, справа от него – сват, слева – сватья. По уверению информантов, такое расположение должно было защитить жениха от возможных негативных действий в процессе следования. По обычаю управлял тройкой двоюродный брат жениха – братан. Остальные поезжане следовали в обычных санях / тарантасах одиночной упряжи. В 1960-е годы в Усть-Цильме появились первые грузовые машины типа ГАЗ-66, и считалось за честь молодожёнам проехаться по селу на машине: в кузове расставляли лавки, место молодожёнов покрывали ковром, на остальные сиденья стелили покрывала. Поезжане с песнями ехали в дом невесты и обратно: «Так эть едем-рехам (громко поём – Т.Д.), дэк тольки звон звенит по деревне».
Путь к дому невесты был достаточно сложным: жители деревни устраивали всевозможные преграды: закладывали дорогу хламом; на любом участке пути свадебный поезд могли остановить и потребовать выкуп. Отказывать в просьбах было не принято, так как в традиционных представлениях выкуп рассматривался как «откуп» от нечистой силы и отказом можно было навлечь на молодых беду. Все «дорожные» расходы обычно несли дружки и тысяцкий, однако допускалась и помощь других поезжан. Для жениха и его свиты ещё одной преградой был двор дома невесты, в черте которого следовало пройти три препятствия: у ворот, собственно во дворе и на крыльце дома. Выкупы сопровождались испытаниями, к примеру, жених должен был быстро и четко отвечать на поставленные вопросы/загадки подружек невесты, которые придумывались специально к каждой свадьбе. Примером тому является диалог свадебных сторон, записанный С.В. Максимовым в сер. XIX веке: «Дверь заперта. Женихов дружка колотится с молитвой: Господи Иисусе Христе, сыне божий! – до трёх раз. За дверью дают “Аминь”. Следуют вопросы:
Что вы за люди?
Мы люди божьи да государевы.
Зачем пришли?
По ваше сулено, по свое богосужено.
Какой земли?
Российской.
Какого царя?
Белого.
Как его зовут и прозывают?
Александр Александрович Романов.
Деточки?
Николай, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга.
Где столица?
В Питинбурхи.
Какой вы веры?
Самой истинной, православной.
Не по новой?
По старой.
Какой вы губернии?
Архангельской.
Какого уезда?
Мезенского.
Волости и селения?
Усть-Цилёмского.
Далее спрашивали, как зовут жениха, мать, братьев, дружек, поезжан. Иногда диалог длился около получаса, девушки осознанно тянули время, продлевая часы нахождения невесты в доме. Далее происходила выдача невесты жениху и отъезд в церковь или в дом жениха.
В начале XX века «завоевание» дома невесты было также наполнено испытаниями для жениха и его сторонников, а расспросы поезжан при прохождении первой преграды – ворот двора были уже краткими:
1. Кто там?
Добрые люди.
Чьи вы, добрые люди?
Божьи да государевы.
Зачем пришли?
За вашим вспоенным, вскормленным дитятком, за нашей суженой (имя, отчество невесты) для слуги царя святой Руси (имя, отчество жениха).
2. Кто, зачем?
Купцы приехали
По ваше сулено, за наше богосужено.
Что подо мной, что над тобой?
Надо мной небо, под тобой земля.
Насладишься и наплачешься?
Черемуха.
Получив ответы на вопросы, подружки невесты впускали жениха с поезжанами во двор, где жениха проверяли в силе, ловкости, умении. Наиболее популярным испытанием была колка дров, для чего выбирали свилеватый чурбак со множеством сучьев; требовали денежный выкуп.
На крыльце дома устраивался своеобразный «поединок» между сватьями (представительницами жениха и невесты), который начинала сторона невесты: «Подойди поближе да поклонись пониже». Сватья жениха отвечала: «Не невольно было дело, охочо» или «Не наша беда, ваша». После этого им подносили по кружке с брагой и они начинали поединок: каждая, стоя на одной ноге, проявляла настойчивость и демонстрировала силу, ударяя соперницу, при этом сватья жениха должна была перелить брагу из своей кружки в кружку сватьи невесты, которая всеми силами стремилась помешать этому. «Петушиный бой», – так называли этот ритуал устьцилёмы, прекращался, когда сватья жениха достигала цели. Распитием напитка стороны «примирялись».
По своему характеру ритуал прохождения женихом испытаний сходен с обрядом инициации, проводившийся при переходе юношей в категорию взрослых мужчин у разных народов мира. В свадебной обрядности жениха проверяли в силе и умении выйти из затруднительной ситуации, рассматривая его как будущего семьянина.
После всех испытаний поезжане входили в дом. Родственники невесты, сидевшие за столами, выходили и уступали место поезжанам, приговаривая: «Про вас столы ставлены, про вас яства готовлены». По описанию Н.П. Колпаковой, узнаем о происходящем диалоге между женихом и невестой: «Жених, зайдя вслед за тысяцким в дом невесты, шёл в её комнату и нёс ей блюдо с гостинцами, закрытое платком. Невеста причитала:
Проходи ты, пожалуйста,
Удалый да добрый молодец…
Мало примай, большому строку давай, — говорил жених и возвращался в избу. После этого дружки, сватья, жених и тысяцкий заходили за стол, где стоя требовали с поклоном невесту: «Давайте скорей, снаряжайте поскорей».
Обращает на себя внимание переданный в плаче невесты образ жениха, характеризуемого исключительно положительно; он предстаёт как «добрый молодец», невесте предстоит переход в «чужи люди», но к «добру парню»: «Пойдешь моя да во чужи люди, / Во чужих-то да во добрых людях, / За чужим-то да за добрым сыном»; величием наполнены описания жениха «смиренный», «умный да разумный»:
Иль на у д а л о г о да д о б р а м о л о д ц а
На еговы-то да на м у ж с к и е п л е ч и,
На мужски плечи да на а р ш и н н ы е,
На ж ё л т ы к у д р и да м о л о д е ц к и е,
На егово-то на б а с к о л и ц о,
На баско лицо да на р у м я н о е,
Иль на б е л о т е л о да на б у м а ж н о е,
На б а с к и г л а з а да р а з в е с ё л ы е.
Перед выводом к жениху невеста в плаче обращалась к родителям за благословением:
Ты кормилец мой, гора высокая,
Ты кормилец мой, стена каменная,
Я прошу у тя да канаюся,
Я канаюся да домогаюся,
Не житьё-бытьё да не имущество,
Не холмы прошу у вас высокие
Я не полосу у вас широкие,
Не луга у вас зелёные,
Не площади у вас широкие,
Не широкие да мелкотравные,
Я прошу у вас бедна, канаюся,
Божьего да благословеньица.
Обращается к матери:
Ты кормилица мати родимая,
Я прошу у тя, канаюся
Уж я божьего благословеньица,
Со буйной главы да со сырой земли.
Кланяется в ноги отцу и матери; отец благословляет ковригой хлеба. Невесту начинают одевать под венец. Она плачет:
Вы куда меня да снаряжаете,
Вы куда меня да сподавляете,
На каку меня долгу-работаньку,
На волну да на ходячую,
На домашнюю да суетливую,
Вы куда меня да отправляете,
Отправляете да во чужи люди.
Мать оплакивает свою дочь:
Ты кормилица, да чадо милое,
Ты кормилица, дитя сердечное,
Ты слуга, да была верная
Ты верна слуга да неизменная,
Ты рука была да моя правая,
Уж ты правая моя да долгая,
Как крыло мое да лебединое,
Ты крепка, плотна была домашница,
Ты крепка, плотна была надёжница,
Уж ты тихая была, смиренная,
Умная была разумная,
Пойдёшь моя да во чужи люди,
Во чужих-то да во добрых людях,
За чужим то да за добрым сыном,
Надо жить умеючись да разумеючись,
Надо тише жить да ключевой воды,
Надо ниже быть да шелковой травы,
И звать надо да всех по имени,
Величать надо да по извочину,
Звать надо да всех со старого,
Со старого да звать малого.
Невеста обращается к отцу:
Ты кормилец мой, гора высокая,
Кормилица, мати родимая,
Вы не бросьте меня несчастную,
При нужде меня, при бедности.
Благословив дочь, отец за платок выводил ее к столу, где и передавал к жениху. Имеющийся материал позволяет говорить по крайней мере о трёх устьцилёмских вариантах вывода/передачи невесты жениху (выданье). Вопрос о существе брака волновал беспоповцев, и не исключено, что зафиксированный ранний вариант благословения молодых является одним из пережитков учения о бессвященнословном браке, в которое привнесены элементы местных обычаев. Ритуал сходен с рукобитием: отец выводил дочь, накрытую платом в центр комнаты, под матицу, благословлял её караваем хлеба с воткнутой в него сверху небольшой иконой. После этого за платок передавал дочь свату, тот жениху, а родители невесты спрашивали молодого: «Люба ли?» – «Люба не люба да судьба привела». Далее крестный жениха и отец невесты, жених и невеста соединялись друг с другом правыми руками через платок. Пары становились таким образом, что их руки образовывали крест. Один из участников сватовства – тысяцкий (сват), находившийся в это время в красном углу, произносил «Господи благослови», и пары разъединяли свои руки. С этого момента брак считался состоявшимся. Невесту вновь закрывали большим платком и оставляли рядом с женихом. Крестный и родственники жениха одаривались платками, все присутствующие молились и садились за стол, где закрепляли договор уже традиционным распитием браги. Жених и невеста на обручении пили из одного стакана.
В 1920-х годах обряд проходил в сокращенном виде. В доме разговор с родителями невесты заводил сват, сразу требуя её вывода к гостям. Но по обычаю лишь после третьего требования отец невесты выводил дочь за платок, которым была она накрыта на заручении, и по ходу солнца заводил за стол, где передавал дочь жениху, спрашивая будущего зятя:
– (Имя, отчество жениха) будешь ли свою молодую жену поить, кормить, почитать?
– Будет она меня почитать, буду и я почитать.
На Пижме записан и такой диалог между отцом девушки и молодыми:
– По любви выходишь? – спрашивал дочь.
– Да.
– Будешь ли почитать? – спрашивал зятя.
– Бог меня будет одевать да обувать, поить да кормить, а жена будет обшивать, обмывать, обвязывать, буду почитать, кормить и поить.
Невеста отвечает:
– Будет меня муж поить, кормить, буду и я его обшивать и обвязывать.
Все участники обряда молились, и сват объявлял жениха и невесту мужем и женой.
В 1970-е годы зафиксированы два варианта вывода невесты к жениху: 1. На требование поезжан показать невесту отец выводил дочь в современной одежде и на несколько минут сажал за стол рядом с женихом, спрашивая: «Та ле?». После утвердительного ответа девушку уводили, переодевали в традиционный наряд и вновь выводили за стол. Отец передавал дочь жениху по «правилу» 1920-х годов, после чего мать или бабушка невесты начинала приплакивать. В советский период молитв не совершали; невесту вновь переодевали в современный наряд, и молодые ехали в загс, где документально оформляли отношения сторон. 2. Прежде чем вывести невесту жениху, поочередно выводили двух девушек, от которых жених и его дружина отказывались, приглашали пройти и сесть за стол в статусе гостей. И только третья являлась настоящей невестой, её по обряду за платок отец передавал жениху, предварительно спросив: будет ли он жену кормить, поить, обувать, почитать. Иногда девушек представляли всех сразу. Непосредственно при выводе к жениху звучали заручения. В первый день невеста была одета в современное свадебное платье, но сохранялся элемент обряда поднос. Во второй день невесту наряжали в народную одежду, а также всех её подруг. Ю.В. Гагарин, занимавшийся исследованиями в Усть-Цилёмском районе в 1970-е годы, отмечал, что в современный обряд включены элементы традиционной свадьбы. Исследователь, несмотря на свои атеистические убеждения, признавал такие включения привлекательными, «украшающими новую свадьбу». В целом для староверов расплетение/заплетение косы, вывод невесты за стол и передача её жениху были важнейшими символическими актами, равноценными венчанию у церковно-православных, и являлись кульминационными в переходе девушки из статуса невесты в статус замужней женщины.
На протяжении всего свадебного дня жених и невеста должны были держаться друг с другом через платок, который являлся их оберегом. Современные устьцилёмы объясняют этот обычай защитой молодых от бедности: «Чтобы не голо жилось». Свадьба в доме невесты была непродолжительной: «Посидят, по три стопки выпьют и поедут к жениху свадьбу править». Из дома первыми выходили дружки, сват, жених с невестой и женихова сватья, следом шли остальные гости. Уходя, невеста тянула за собой стол, а оставшиеся в доме подружки должны были быстро всё убрать с него. Устьцилёмы объясняют этот обычай как пожелание скорого замужества сёстрам и подругам; упавшая на пол посуда предвещала девушкам нахождение в девичестве ещё как минимум год. Во дворе поезжане становились полукругом, благодарили хозяев, кланялись на четыре стороны и садились в сани или телеги. Дружки с золовками парами ехали верхом на лошади, возглавляя свадебный поезд, за ними следовали молодые, размещавшиеся в одной повозке со сватом и сватьей, и затем остальные участники обряда. В середине XIX века по дороге в церковь невеста сидела полностью накрытая платком, а жених ехал с непокрытой головой – обрядовое поведение уместно сравнить с погребальным обрядом, когда устьцилёмы-мужчины обнажали голову во время следования похоронной процессии. Этот архаичный обычай сохранялся до первой трети XX века – до закрытия церквей. В том случае, когда брак заключался в доме невесты родительским благословением, т.е. считался состоявшимся, жених ехал в головном уборе.
На Пижме жители окрестных деревень съезжались на брачное молитвословие в д. Скитскую; на Цильме – в с. Трусово. Документальных источников об этом не выявлено. Известно лишь, что в моленной наставник совершал благословление, служили молебен.
Венчание
Кроме брака, оформлявшегося родительским благословением и замолитствованием в частной (домашней) моленной, практиковалось церковное венчание в православной или единоверческой церкви. Ранние краткие сведения о причастности к венчанию усть-цилёмских староверов относятся к середине XIX века. На начальном этапе прихода староверов на Печору переселенцы избегали церковного общения, и венчание происходило только по принуждению. Но уже во второй половине XIX века в волостном центре некоторые крестьяне вопреки своим убеждениям были вынуждены обращаться к церковному Таинству венчания с тем, чтобы получить юридические права на наследство. Н.Е. Ончуков пишет об этом: «Таинство брака, так же как и все прочие таинства, устьцилёмы отрицают, и они жили бы не венчаясь, но “нужды ради идут скверниться в никонианскую церковь к щепотнику и табашнику попу». Вместе с тем, некоторые устьцилёмки соглашались принять венчание с целью укрепления брака: «Устьцилёмы венчались прежде гораздо меньше, чем теперь, жили просто сходясь, но зато семейные узы были несравненно слабее. <…> Молодые устьцилёмки, зная непрочность неоформленного союза, выражают упорное желание венчаться в церкви». Но венчание было более характерно для жителей волостного центра; даже в близлежащих деревнях, не говоря уже об удалённых селениях, родители запрещали молодым венчаться, хотя такие случаи бывали.
Священники усть-цилёмского православного прихода вяло вели работу по обращению староверов в официальную церковь. Видя безнадёжность своих призывов к отречению староверов от древлеправославия, они считали достаточным принятие Таинства венчания, чтобы причислить староверов к церковно-православным. Фактически же верующие по-прежнему оставались в староверии. Е А Ляцкий свидетельствует об этом: «Устьцилёмы аккуратно посещают церковь, говеют, исповедуются и таким образом номинально присоединяются к церкви. А в это время дома идут спешные приготовления и совершаются свои обычаи и обряды, весьма мало соответствующие чину церковного очищения. В этих целях брачующие обращались к священнику, принимая на себя на неделю вид добрых христиан». О несерьёзном отношении устьцилёмов к церковному православию пишет один из священников устьцилёмского прихода: «Приходит время молодому раскольнику жениться; зная, что без присоединения к православию его в православной церкви не повенчают, он соглашается принять пред таинством брака православие. Новоприсоединенные записываются, таким образом, в приходские книги уже как православные. Но этим и кончается общение новоприсоединившихся к православной церкви; после брака они снова становятся такими же раскольниками, какими были ранее. За временное же свое пребывание в православии они исполняют разные епитимьи и временные отлучения от трапезы своих домашних».
Отношение староверов к единоверческой церкви было также отрицательным, она не вызывала интереса у большинства населения. В частности, о неприятии пижемскими старцами единоверческой церкви в Усть-Цильме становится известно из письма старца Василия Чуркина, адресованного в 1859 г. жителю дер. Подчерье А.С. Мартюшеву, в котором духовник не только давал советы (по поводу исповеди, женитьбы сына и др.), но и рассказывал о ситуации, сложившейся в Усть-Цильме: «А у нас на Устильме нынче бывшия христианы и крещения все запутались неправою пути сошли почитай все до одного человека. Задумали просить церковь и попа староверского, которое никак не может быть и в писании у святых отцов не сказано на это время, что будет такая церковь и учители негде взять прежде наших устелемов было ученых людей и в Данилов монастырь того недоходим потому что все до конца потеряно Никоном Еретником… и Богу служили без попов, а теперь устьцилемци попа воспросили себе на погибель души и другие узнали и неладно зделали и некак избыть стало пожелали и подписались под эту церковь но только узнал в Пижме никто не подписался и не знает что будет, а не желает приобщения» (сохранена орфография и пунктуация оригинала — В.В.)». По данным метрических книг, количество венчаний в православной церкви значительно превышало число венчаний в единоверческом приходе.
Венчания в православной церкви практиковались в с. Нерица, расположенном в приграничье с ижемскими селениями; незначительный процент браков приходится на церковь, действовавшую в с. Замежная. В удалённых деревнях, где административное регулирование не имело силы, родители строго запрещали молодёжи венчаться в церкви. Таким образом, устьцилёма вынуждены были считаться с административным руководством, требовавшим от вступающих в брак церковного венчания, которое, как и у всех церковно-православных, сопровождалось магическими действиями. Приведу три описания разного времени: первые два относятся к середине XIX века, третье – к первой трети XX века:
1. «Когда приедут в церковь жених и невеста, на несколько времени останавливаются на паперти, а шаферы и сват идут хлопотать о совершении брака. Церковь в это время уже всегда бывает полна народа. Здешний народ любит смотреть свадьбы. По окончании брака молодую уводят на паперть, сажают на прилавок, снимают платок и вот тут-то происходит народный обряд – расплетение косы. Когда расплетают косу невесте, которую она, как бы жалея, схватывает руками и старается сберечь. Она плачет и просит окрутчиц, чтобы не раплетали косу, дарит им пряники и крендели. Расплесть и сделать из одной девичьей косы две, здесь означается словом окрутить. Окрутчицы бесцеремонно берут и расплетают в несколько минут. Волосы невесты заплетают в две косы, которые обёр- тыввают кругом головы, надевают повойник, на него косынку и представляют жениху. Из церкви все едут в дом к жениху».
2. «В церкви, пока дружки и сват хлопотали о совершении брака, молодые некоторое время находились на паперти. После венчания здесь же происходило расплетание косы. Молодая сидела на прилавке и умоляла в плаче «окрутчиц» сохранить косу, при этом предпринимала попытки откупа пряниками и кренделями. В несколько минут «окрутчицы» заплетали две косы, которые обёртывали вокруг головы, надевали повойник, на него косынку и таким образом представляли невесту жениху. После этого все ехали в дом жениха, где продолжали пир».
3. «Едут в церковь всё равно в какую – мирскую или староверскую. В церкви с невесты при входе снимают платок. Дружки с бутылкой красного вина идут за попом, а все ждут. Венчают обычно без певчих. Когда накладывается венец, хаз снимают. Когда венец снимут и всё кончится, жениха пошлют помолиться к образу Миколы, а невесту ведут в первую комнату при входе и там ровно кто жёнки или девки плетут ей две косы, надевают кокошник и золотой побойник. По подойнику – золотой плат или золотую половинку. Домой едут тем же порядком. После венца меряют венчальные свечи у жениха и невесты: у кого больше выгорело, тот скорее умрёт. Из церкви жених всё ведёт невесту за платок (носовой), который она держит в руке, а снятым для венчания головньм платком невесте после венца завязывают рот с узлом на шее.
Информанты отмечают: в церкви жених и невеста, следуя рекомендациям родителей, перед венчанием должны были незаметно выплюнуть причастие, считавшееся более греховным, чем венчание, и про себя повторять Исусову молитву, как защиту от «неверных». Искупить грех венчания молодые должны были строгим постом (вне церковных постов) с ежедневным отмаливанием не менее трёх лестовок земными поклонами и последующим исповеданием. Практиковался и откуп: молодые платили пожилой женщине деньги, и она отмаливала их «венчальный грех», при этом все они должны были соблюдать пост одновременно. Допускалось и раскладывание епитимьи поста на несколько лет, т.е. по одной неделе в год. В начале XX века пост заменяли купанием в проруби (в ердане) в праздник Богоявления Господня.
Имел место сговор родителей брачующихся и священника, и каждая из сторон видела в этом свою выгоду. Например, к венчанию прибегали в таких случаях, когда девушку сватали из дальней деревни без её согласия на брак с тем, чтобы она не сбежала обратно к родителям. Предварительно родители жениха договаривались с представителем церкви исключить опрос молодых о добровольности их решений на брак, являвшийся в совершении Таинства обязательным и важным: «На Цильму с Нерицы привезли бабку Анну, бат одна же только неричанка тут ушла замуж. Бабка замуж идти никак не хотела, далёко от родителей, а семья была больша, и отдали. По дороге жениховой отец решил молодых обвенчеть в церкви. И бабка Анна едёт и думат: поп спросит по души едёшь или нет, скажу нет. А поп и не спросил. Отец жениха подговорил попа не спрашивать и их так и обвенчали. Всю дорогу бабка своему жениху твердила: “Не люба ты шерстина” – это как не за любого пошла дэк. А жись хорошу прожили, в довольстве». Вместе с тем, на подобные исключения родители молодожёнов шли осознанно и потому, чтобы считать венчание недействительным.
После церкви свадебный поезд ещё раз проезжал по деревне, который жители сопровождали свистом, выстрелами из ружей; в селениях по Цильме – жгли костры. Эти действия повсеместно рассматривались как средство отпугивания «злых» сил, наслания порчи на молодых.
Таким образом, в усть-цилёмском варианте священники, видя безнадежность искоренения староверия в крае, шли на компромисс с тем, чтобы привлечь староверов в церковь; регистрация венчаний являлась весомым основанием, по которому священники отчитывались перед Консисторией о численном составе прихода.
Свадьба в доме жениха
Во дворе жениха свадебный поезд встречали его родители и гости. Поезжане выстраивались в полукруг, совершали поклоны на четыре стороны и подходили к дому. В с. Замежная записан следующий диалог между свёкром и свекровью при встрече молодых:
Свёкр: «Не домашницу ведут».
Свекровь: «Не работницу ведут».
Свёкр: «Змею лютую ведут».
Родители жениха стелили у крыльца шкуру оленя, на которую молодожёны становились на колени для благословения (падали в ноги): отец хлебом с воткнутой в него иконой трижды обносил крёстным знамением молодых, передавал хлеб сыну и молодые вдвоём в течение трёх дней должны были его съесть. Затем гости осыпали молодых зерном, имевшим устойчивую семантику «плодородия», «богатства», «жизни», «благополучия» в восточнославянских обрядах; ритуал был направлен на обеспечение счастливой жизни молодых. Ещё одна символическая функция зерна связана с предохранительной магией: контактирование с ним должно было обеспечить молодым защиту от возможного вмешательства (порча, сглаз). С этой же целью на всех этапах свадьбы использовали шкуру животного.
В традиционных культурах разных народов сакральным центром жилища является очаг. У устьцилёмов главной частью дома была изба с русской печью, где и располагались молодые в окружении женщин; мужчины праздновали в другой комнате. Перед застольем участники торжества молились и со словами: «Господи, благослови, Христос» садились за стол. Размещение за столом было следующим: в простенке напротив входной двери сажали жениха и слева от него невесту, рядом с ними крёстных, далее замужних женщин от 35 до 45 лет, называемых бабёнки в самом разу, ближе к порогу – молодых замужних женщин. В случае размещения гостей в одной комнате границей служила матица: в верхней части избы находились молодожёны и женщины; в нижней – мужчины.
Молодые сидели на шкуре оленя, расположенной мехом вверх. Жених сразу старался подложить под себя подол сарафана невесты, сесть по-хозяйски широко, подчёркивая своё главенствующее положение в паре, в то время как невеста сидела, съежившись, робко. Все застолье она сидела молча; ей запрещалось есть, пить, веселиться. По словам информантов, она сидела как замороженная. Иногда её рот перевязывали платком, снимая его перед самым уводом молодых на подклет. Неподвижность и безмолвие невесты – признаки мира мёртвых, каким и представляется дом жениха по текстам плачей, сопоставимый с чужбиной, неведомой стороной, «тем» светом: «Не пролетит туда да птичка пташечка, / Не принесёт тебе да письма грамотки», – говорится в плаче. Согласно древним мифам, путешествующему между внешним и подземным мирами запрещалось прикасаться к еде и питью в загробных владениях. Нарушившие запрет оставались там навечно. В свадебном обряде трапеза являлась важнейшим ритуалом, посредством которого происходило обретение невесты из иного мира. Лишь перед уводом молодых в подклет невеста надкусывала немного рыбника, конкретно – голову рыбы, – демонстрируя желание укоренить род и первым родить наследника. Поздние объяснения ритуального поведения новобрачной за столом сводятся к показу покорности и уважения к новой родне, что является явно вторичным толкованием.
Поднос как часть свадебного обряда бытовал только в деревнях, расположенных по Печоре. Первая половина свадебного застолья заканчивалась подносом, считалось его можно было совершить не ранее того, как будет произнесено три тоста: молодые подходили к каждому гостю и подносили на подносе по стакану браги. Родственники жениха при этом кричали «Горько», а представители невесты — «Сладко!». Гость в знак благодарности дарил подарок или деньги, которые передавали матери жениха, при этом мужчины целовали молодую, женщины – молодого. Этим ритуалом завершалась первая половина свадьбы. После подноса начиналось веселье для гостей, а молодых отводили на подклеть. В цилёмских и пижемских деревнях свадьбы проходили скромнее, молодожёны не выходили из-за стола в течение всего свадебного застолья. Вечером их
уводили в подклет.
Традиционно перед подклетом приезжали родители невесты «с местом», состоявшим из подушек, перины, одеяла, занавески для кровати, за которой молодые уединялись в доме от других домочадцев. Дождавшись молодых, родители возвращались в свой дом. Если девушка выходила замуж в свою деревню, то остальную часть приданого (живность, одежду) привозили после свадьбы.
Подклет
После обхода гостей и их личных поздравлений молодых уводили на подклет или в амбар, где оставляли на некоторое время наедине. Здесь ритуальные действия связывались с половым актом, составлявшим центральный момент брачного «перехода». В печорских деревнях молодых сопровождали крёстный жениха, участвовавший на сватовстве и крёстная невесты. Этот эпизод свадьбы всегда обыгрывался, был наполнен иносказательностью: «Раньше на подклет уводили. Меня сосватали, шипко же я преталась, да всё равно насилу наредили. Потом нас на подклет повели, Василий Осипович у нас ноги заплетал. Пока невесту валят, у невесты руку протегивают и на руку валят жениха, потом одна нога у невесты вниз, потом парня нога, потом опеть невесты нога и сверху парня. Ноги заплетали крестны, а у кого не было, то кто сватал – те заплетали. Нас заплетали, заплетали, но мы так и не пожили с ним. Четыре ночи всего со мной был, но мы так и не спали. Старухи нас молодых учили: девушки, вы в перву ночь не поддавайтесь, честна девушка должна три-четыре ночи сопротивляться, не поддаваться. Он четыре ночи пробыл, а потом ушёл к какой-ле и с ней переспал. Я его и выгонила. Если бы любил, дэк то и бы не ушёл, а видно у его была своя зазноба, вот и не стал ждать. Я в первый раз веть беда молода замуж походила, вот и не хотела. А во второй раз я замуж пошла тоже молода ишшэ была – 18 лет было. Я Василию всё рассказала, что замуж уш ходила, а он посмеялсэ и сказал: “Не вино, что походила”. И с ним тоже в перву ночь ничего не было, а во втору только. А будили на подклети: возьмут палку, поднимают молодых, как аншпугом – палку под молодого запихивают и его поднимают, спрашивают: “Шугу мешал, лёд долбил? ”. А он отвечат: “Ничё не делал, шугу не мешал и лёд не долбил” – значит ничё ишшэ не было. А когда переспят, только тогда отвечали, чё делали. Если девушка была – дэк лёд долбил, а не девушка – шугу мешал. И отвечали гостям или родителям – кто спрашивал. Бывало через три-четыре дня скажет: “Сёдни лёд выдолбил”».
В другом варианте, записанном в с. Усть-Цильма, молодая жена в плаче упрашивала мужа пустить её на кровать, демонстрируя покорность, вместе с тем через иносказательность преподносила себя с достоинством:
Трехкопеечный мужик да на кровати лежит.
Сторублёвая жена да у кровати стоит.
У кровати стоит да низко кланяется:
Уж ты муж мой дорогой (имя, отчество),
Возьми меня на кровать,
Будем вместе спать.
Получив отказ, жена спешила услужить мужу, помогая ему раздеться. Особое внимание она уделяла обуви, поскольку в один из сапогов клали монету, и важно было не уронить её на пол; уроненная на пол монета была знаком сварливости жены. Обряд раздевания сопровождался эротическими шутками: раздев мужа, жена снова просилась в постель и, получив разрешение, обращалась за помощью к свату и крёстной, которые и «улаживали» дело, укладывая молодых вместе, и, переплетая их руки и ноги между собой.
В цилёмских деревнях молодая троекратно просилась на постель к мужу: «Василий Петрович, пусти в товарищи на место». Два раза он отвечал отказом: «Настасья Ивановна, где стоишь, там и ложись» и только на третью просьбу давал положительный ответ. После такого диалога сват и крёстная «мирили» молодых, укладывая вместе.
У пижемцев «выкуп» места обыгрывался так: жена настойчиво упрашивала мужа принять её на постель, но в ответ получала различно мотивированные отказы: подушка одна, постель узкая и т.п. После третьего обращения муж разрешал жене лишь присесть рядом,
и сетовал на различные неудобства – низкая подушка,
неровная постель и т.д. Жена пыталась угодить своему мужу: подкладывала под голову мужа «подушку» в виде скатанной небольшой рыболовной сети (пущальницы), которую, прежде всего, использовали как оберег. Иногда мать молодого заранее клала под кровать камень или громоздкую часть конской упряжи, чтобы молодая могла самостоятельно перестелить постель и устранить неудобства. В этом обрядовом действии обращает на себя внимание обычай использования камня, который в славянорусской традиции выступает заместителем человека. Его наличие в свадебном обряде может быть интерпретировано как пожелание молодому сексуальной силы и физической крепости в целом. Предположительно, использование конской упряжи могло связываться с пожеланием рождения наследников, которые должны стать умелыми работниками. (Ср.: в Среднем Поволжье рядом с постелью новобрачных иногда клали какие-либо орудия труда для того, чтобы у новобрачных рождались сыновья и, чтобы они вырастали крепкими хозяйственниками). В итоге, когда все неудобства были устранены, участники игры укладывали молодых, подкладывая руку жены под голову мужа, тем самым угождая ему, переплетали молодым ноги и оставляли их наедине. Подклет запирали на замок, с тем, чтобы девушка не убежала от молодого: «Ране ведь молодых женили, жених и невесты и не видали друг дружку в глаза. Бывало нелюбой парень, дэк девка убегала. Вот и запирали их, а уш дело сделают, тогды и бежать не к чему».
Через некоторое время сват и сватья шли будить молодых и приглашали к столу. Иногда молодых будили дружки стуком в дверь. Находившиеся у двери гости кричали: «Ох, ох, таки ох!», – такое поздравление молодых имело явно эротический оттенок. Их выводили сначала на угощение в сени или крыльцо, а затем вели к столу, где происходил обмен подарками. Молодой жене меняли головной убор – побойник на плат, который завязывали узлом на затылке и родители мужа поздравляли её, величая молодкой / молодушкой. Такое почтение к снохе, бывало, сохранялось пожизненно. Многие женщины вспоминают, что их свекровь никогда
не называла по имени, чем выражала уважение. Статус молодых у устьцилёмов сохранялся до тех пор, пока они рождали детей, тогда как в других регионах России он утрачивался с рождением первенца или мальчика.
Согласно традиции молодые должны были в течение трёх дней прожить в неотапливаемом помещении вне зависимости от сезона. Бывало, они проживали в течение всей зимы, пока не рождался ребёнок, особенно это касалось молодожёнов из больших семей: «Мы женились в феврале и всю зиму прожили в клети: катагар завязанной, спали на постели, было овчинно одеяло – не замёрзнешь. Одеяло да подушки заносили перед сном на печь. Согреются и хорошо, не замёрзнешь. А весной было не к чему и заходить, летом всегда на поветях да в клетях спали. Мужику с бабой хош тут не надо таиться да воровски спать». Такие случаи были не единичны.
Смотрины
Обязательным элементом свадебного застолья были смотрины молодых, на которые приходили замужние женщины и старухи. Старообрядческие предписания запрещали участие стариков в свадебном обряде, но не возбраняли их присутствие в качестве зрителей. В доме они располагались возле порога, хозяйка радушно угощала посетителей, отказываться было не принято. Смотрины молодых рассматривались как способ пожелания им благополучия; затем празднование активно обсуждалось в сельской округе, а именно: во что были одеты молодые, свадебный стол, запевалы и др. Случалось, что на иных свадьбах, например, с иноверными, «зрителей» не было, что рассматривалось плохим предзнаменованием.
Свадьба в доме мужа имела совершенно иной эмоциональный настрой в отличие от обрядов, проводившихся в доме невесты, где звучали только голошения с «раздирающим душу воем». Несмотря на строгие церковные правила, запрещавшие бурные празднования и призывавшие соблюдать за столом приличие: «Неподобает христианам позванным на брак плескати, или плясати: но честно, и с говением вечеряти, или обедованием, яко же лепо есть християнам» усть-цилёмские свадьбы были наполнены весельем – песни и «кружания» являлись составляющими гулянья. Особенностью усть-цилёмской свадьбы было отсутствие с в а д е б н о г о р е п е р т у а р. На свадьбах пели лирические (проголосные) песни: позднее обязательной частью «веселья» становятся частушки.
В д. Скитской (по р. Пижме), а также в благочестивых семьях Усть-Цилёмской волости, староверы свадебничали один день, гулянье было непродолжительным, без песен и игрищ, считавшихся греховными. В перечне исповедальных вопросов грех «свадебных утех» спрашивается особо и христиане, строго следовавшие правилам, изложенным в Кормчей книге, стремились не нарушать их. В моленной наставник благословлял молодожёнов, служили молебен. В этот день устраивали небольшой стол, где собирались молодые, их родители, ближайшие родственники. По воспоминаниям информантов, гости расходились по домам ещё до темноты.
§ 6. Олабыши
Как уже говорилось, в зависимости от экономического положения семей различались длинные и короткие свадьбы: первая продолжалась неделю, вторая – три дня. В первый день происходил выкуп невесты и собственно свадьба, во второй и третий дни устраивались олабыши; в последующие дни недельного гулянья собирались родственники обоих сторон, продолжавшие отмечать жизненно важное событие. Вне зависимости от того была свадьба трехдневной или длилась неделю, второй день назывался олабыши, от главного блюда, подаваемого на стол в этот день – блины (олабыши), с которыми приходили только женщины и угощали ими молодых. Приглашать на олабыши не полагалось; к двум часам дня приходили все замужние женщины деревни, а иногда и соседних, словом, чем больше было гостей, тем удачней должна была складываться жизнь молодых. На Цильме угощение второго дня называлось молодкин чай: молодые сами накрывали стол и угощали гостей.
Утром молодых будили свекровь и сват, тут же потчуя их блинами. Крёстный, при этом поздравлял крестника: «На ручке спал, да в уста целовал». Тут же иносказательно спрашивали молодого о целомудренности молодки. Сват выходил и посредством знака сообщал об этом домочадцам: сворачивал блин на четыре части и
откусывал его в центре, в ином случае – с края. Иногда молодой самостоятельно извещал об этом, проделывая то же самое, и присутствующие говорили о женихе: блин продолбил; дыру продолбил, а о молодой – молодка – проткнута серёдка. Обнародование этого факта было одним из ключевых моментов второго свадебного дня и, если девушка до замужества сохраняла девственность, то уважение мужниной родни к ней возрастало.
Поздравление гостей принимала и мать жениха, ответом на которые являлось устойчивое выражение сына женила, невестку получила.
После поздравлений невестка приводила себя в порядок и просила у свекрови благословения на домашние хозяйственные работы – падала в ноги: «Матушка, благослови меня сочни скать». «Бог благословит
тебя молодушка», – отвечала свекровь. Несмотря на полученное благословение, невестка в течение трёх дней, а иногда и до пира находилась в доме в статусе гостьи, после чего приступала к хозяйственным делам.
В с. Усть-Цильма для молодых до полудня готовили баню, после которой устраивали стол. В этот день поведение молодой заметно отличалось от предыдущего дня: она веселилась – шутила, пела, плясала, демонстрируя свой веселый характер и доброе отношение к мужу и его родне. По сообщениям информантов, молодка сидела за столом весьма раскрепощённо и щёлкала (лузгала) семечки, а молодой принимал активное участие в молодёжных игрищах. Более содержательны сведения о втором дне пижемской свадьбы. Баню по обычаю протапливала молодая жена, в редких исключениях истопниками были её подружки. Существовала примета: жаркая баня – сварливая невестка, холодная – недотёпа. Если девушка выходила замуж в своей деревне летом или весной, то она, надев холщовую или ситцевую рубаху, вместе с подругами обходила места девичьих гуляний, и после этого вместе с мужем шла в баню. Здесь её по традиции поджидала свекровь, спрятавшись за печкой: она неожиданно плескала холодной водой в невестку, вызывая её испуг. За этим приёмом угадывается магическое очищение молодой жены и стимулирование её репродуктивной функции; в настоящее время информанты называют это одним из способов проверки характера невестки: крик рассматривается как знак её ворчливости.
Третий день предназначался для угощения мужчин и назывался мужским запоем. В с. Усть-Цильма и в деревнях по Цильме через неделю родители жены устраивали у себя дома пир для своих родственников: на Пижме – через 20 или 40 дней. Это был заключительный этап свадебного ритуала. В разных регионах России он назывался по-разному: в центральной России – «хлебины», в Поморье – «хлебины» или «горячи», на юге Дальнего Востока – «тещины блины» и др. Как и на свадьбе молодых усаживали за столом в простенок, а из элементов обряда повторялся только поднос. Пир отличался необычайным весельем: здесь исполнялись разножанровые песни, водили игрища, дробили (вид танцев – Т. Д.), при этом молодые веселились наравне с гостями. После пира статус «гостьи» для молодой утрачивался, и она входила в состав семьи на правах молодой хозяйки.
Первый год был для молодожёнов испытательным, главным образом, для молодой. Например, подмечали: если подметая пол, невестка выносила мусор на улицу, а не выбрасывала его в печку, как это было положено обычаем, то это указывало на её болтливость. В течение года молодожёны участвовали в обрядовой жизни сельского коллектива как в молодёжном кругу, так и во взрослой пруппе. Важнейшим ритуалом первого года жизни молодых были переходы, устраиваемые поочерёдно в домах участников свадебного обряда. Первыми приглашали на переходы родители невесты, ближайшие родственники, крёстная мать, затем остальные гости. «На переходы поедут, поедут молоды к матери, оццю после свадьбы, и люди, которы гостили, после свадьбы приглашать будут, ето переходы. Сватья переходы собират. Родных у кого много, фсе на гозьбу, на переходы с мужыком ходишь» Все приглашающие устраивали стол с обилием еды, дарили подарки, что являлось способом признания ими новой семейной пары. Родители мужа и деревенские жители в течение года внимательно следили за поведением молодых, подмечая их достоинства и недостатки. Если первые преобладали, то через год
молодые получали относительную самостоятельность в действиях и занимали равное с другими парами место в «отцовской» семье. В годовщину свадьбы молодка в плаче «отчитывалась» перед родственниками мужа:
Всем я угождала, ковры вышивала.
Вы, деверьюшки, проживите,
Столько дел сотворите.
А вы, золовушки, умные головушки,
Когда сами пойдите да каковы вы будете.
Свадебный обряд устьцилёмов представлял один из вариантов севернорусского, отличавшийся конфессиональной спецификой, отсутствием свадебного песенного репертуара, утратой свадебного наряда невесты. Несмотря на строгость церковных правил, обряд
был наполнен различными ритуальными действиями, что указывает на его развитость.
«Семья и брак староверов Усть-Цильмы: конфессиональные традиции в повседневной и обрядовой жизни (середина XIX — начало XXI века)». Т.И. Дронова. Сыктывкар. 2013 г.