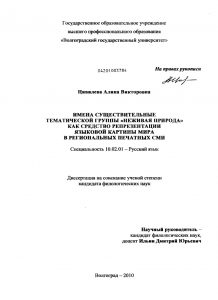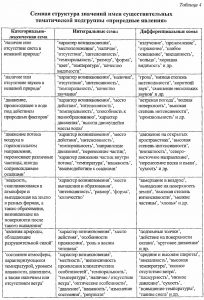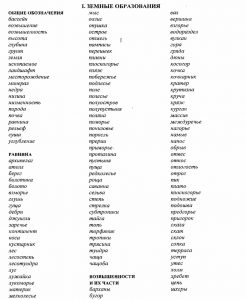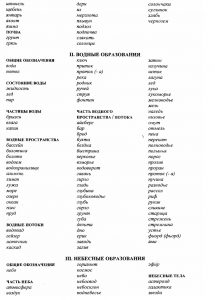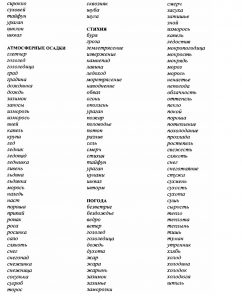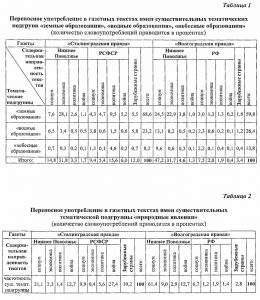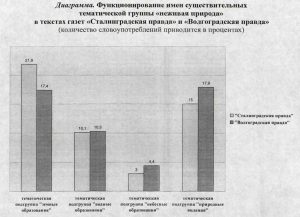Введение
В современной лингвистической науке общепризнанным является положение о том, что язык выступает важнейшим средством формирования и бытования знаний человека о мире [Апресян, 2005; Буров, 2003; Вендина, 1998; Рахилина, 2000 и др.]. С одной стороны, он задает своим носителям определённую картину мира. С другой стороны, в его единицах и категориях закрепляются результаты когнитивной деятельности человека.
Выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум, — принято образно называть языковой картиной мира [Шведова, 1999, с. 15].
Одним из направлений исследования русской языковой картины мира является изучение уровневых единиц языка, репрезентирующих её фрагменты. Особое место в системе средств её формирования и отражения занимает имя существительное, что обусловлено его лексикограмматическими особенностями, значимостью в составе морфологических и стилистических ресурсов русского языка, количественным преобладанием над другими частями речи.
Изучению имени существительного посвящено немало работ. Внимание исследователей привлекают значение предметности [Кошелев, 2000; Лукина, 2003; Рахилина, 2000 и др.], предметно-процессное [Вакарюк, 1985; Цзяхуа, 2007 и др.] и предметно-характеризующее значения [Еремина, 2004; Кондрадгова, 1985 и др.], переносные значения [Скляревская, 1993; Телия, 1988; Фролова, 2005; Черникова, 2001 и др.], грамматические категории [Зализняк, 2002; Лукина, 2003; Милославский, 1979 и др.], лексико-грамматические разряды [Калинина, 2007; Трофимова, 2006 и др.], особенности словообразования, словообразовательная семантика [Шалимова, 2004; Шаталова, 1984 и др.], грамматический потенциал [Белоусова, 1989; Еремина, 2004; Кубрякова, 1978; Рахилина, 2000; Шигуров, 1988 и др.], стилистический потенциал [Анисимова, 1982; Юмашева, 2005 и др.], референциальный потенциал [Степанов, 2004; Шмелев, 2002 и др.].
Изучение перечисленных особенностей имени существительного позволяет реконструировать определенные фрагменты языковой картины мира. Исследование может проводиться и на более высоком уровне, который образуют, в частности, имена существительные тематической группы «неживая природа».
Субстантивы, обозначающие природные образования и явления, получают в работах лингвистов разноаспектное освещение. Интерес учёных вызывает реконструкция репрезентируемых существительными тематической группы «неживая природа» фрагментов языковой картины мира на разных этапах жизни общества [Гришина, 2002; Кошарная, 2003 и др.]. Формирование и специфика репрезентации данного феномена также рассматривается в лингвистических трудах на материале лексикографических источников [Касьянова, 1984; Курбатова, 2000; Шмелев, 1964 и др.], текстов различной стилистической принадлежности [Азаренко, 2007; Богданова, 2007; Панасова, 2007; Скляревская, 1993; Урысон, 2003; Чудакова, 2005 и др.], диалектов [Васильченко, 1996; Суспицына, 2000; Флягина, 2005; Хохлова, 2004 и др.].
Актуальность темы данной диссертационной работы обусловлена тем, что в современных исследованиях мало внимания уделяется особенностям использования существительных тематической группы «неживая природа» в региональных печатных СМИ, в том числе газетной публицистике, главной задачей которой является изображение и оценка разных сторон действительности. Изучение слов названной тематической группы на материале разновременных региональных газетных изданий даёт возможность определить особенности восприятия носителями языка окружающего мира на различных этапах жизни общества, выявить установленную человеком взаимосвязь природных образований и явлений с другими реалиями.
Гипотеза исследования состоит в следующем: семантический потенциал имён существительных тематической группы «неживая природа», определяя специфику их функционирования в разновременных текстах региональных печатных СМИ, позволяет выступать данным лексическим единицам одним из средств репрезентации русской языковой картины мира, различной в советский и постсоветский периоды развития общества.
Объектом анализа избраны имена существительные тематической группы «неживая природа».
Предметом исследования являются особенности использования имён существительных тематической группы «неживая природа» в прямом и переносном значениях как средства репрезентации русской языковой картины мира в областных газетных изданиях.
Цель работы — выявить семантические и функциональные свойства имён существительных тематической группы «неживая природа» как средства репрезентации русской языковой картины мира в текстах региональных печатных СМИ.
Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих
задач:
1) определить место имён существительных тематической группы «неживая природа» в системе средств репрезентации русской языковой картины мира;
2) дать тематическую и лексико-семантическую классификацию именной лексики со значениями «природные образования» и «природные явления»;
3) разграничить в разновременных газетных текстах функционирование имён существительных тематической группы «неживая природа» в прямых и переносных, узуальных и контекстуальных значениях;
4) охарактеризовать семантический потенциал рассматриваемых лексических единиц и особенности его реализации в контексте;
5) установить роль имён существительных тематической группы «неживая природа» в репрезентации русской языковой картины мира, отраженной в текстах советских и постсоветских региональных печатных СМИ.
Анализ лексики, обозначающей природные образования и явления, проводился с опорой на данные «Большого толкового словаря русских существительных» под ред. Л. Г. Бабенко, «Русского семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой, «Тематического словаря русского языка» под ред. В. В. Морковкина, позволяющие изучить определённые области лексической подсистемы, раскрыть принципы формирования и отражения в языке картины мира. Источником для отбора фактического материала послужили издания областных газет «Сталинградская правда» за 1938-1943 гг. и «Волгоградская правда» за 1998-2003 гг., обращение к которым обусловлено тем, что в них представлены определённые этапы развития русского литературного языка в XX в., значимые, в частности, для публицистического стиля [Солганик, 2002]. В газетах 1938-1943 гг. функционирует тоталитарный язык, связанный с процессами утверждения и распространения коммунистической идеологии, подготовкой к войне и участием в ней [Бельчиков, 2000; Кожин, 1985; Купина, 1995; Шкайдерова, 2007]. В региональной прессе 1998—2003 гг. получили отражение тенденции к деидеологизации лексики, переименованию, обогащению словарного состава новыми средствами, которые сформировались под влиянием экстралингвистических факторов, возникших в результате распада СССР, крушения прежней системы государственного управления, распространения новой идеологии в условиях демократической ориентации общества, ослабления или нейтрализации прежних резко положительных или отрицательных оценок [Ермакова, 1996; Земская, 1996; Солганик, 2002; Федорова, 2008].
За единицу наблюдения принята словоформа имени существительного, функционирующая в высказывании, равном предложению. Всего проанализировано более 16 000 случаев употребления субстантивов.
Методологическими основами исследования являются представления о системности языка [Мельников, 1973; Солнцев, 1977; Уфимцева, 2004], взаимосвязи языка, сознания и действительности [Кацнельсон, 2001; Панфилов, 1971]; важнейшие положения, разработанные в области изучения семантики имени существительного [Бабенко, 2005; Вакарюк, 1985; Виноградов, 1977; Калинина, 2007; Князев, 2007; Кошелев, 2000; Урысон, 2005; Шарандин, 2001; Шведова, 1998] и разграничения семной структуры значения, семантической структуры полисемантов и смысловой структуры функционирующей словоформы [Гак, 1990; Лопушанская, 1988]; подходы к анализу публицистического стиля [Костомаров, 1971, 1999; Солганик, 1981, 2002; Туликова, 1987, 1988]; принципы описания языковой картины мира [Апресян, 20066; Зализняк, Левонтина, Шмелев, 2005; Падучева, 2004; Рахилина, 2000; Яковлева, 1994 и др.].
В качестве методов использованы описательный, компонентный, контекстуальный, элементы словообразовательного анализа.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые на региональном материале, извлечённом из текстов областных газет, исследованы имена существительные тематической группы «неживая природа» как средство отражения представлений человека об окружающей его действительности; предложена классификация слов со значениями «природные образования» и «природные явления», учитывающая разграничение наименований земной, водной, воздушной стихий и явлений природы; сопоставлены особенности употребления данных имен в разновременных текстах; показаны изменения в семантической структуре лексических единиц, расширение их парадигматических и синтагматических связей, развитие способности к образованию контекстуальных значений; выявлены семантические признаки имен существительных тематической группы «неживая природа», релевантные для репрезентации русской языковой картины мира; определена специфика функционирования рассматриваемых субстантивов как средств выражения восприятия носителями языка реалий окружающей действительности.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит определённый вклад в дальнейшую разработку тематической классификации имён существительных, уточняет их место в системе средств репрезентации русской языковой картины мира, восполняет пробел в изучении лексики, функционирующей в региональной публицистике.
Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах лексикологии и морфологии, в спецкурсах по семантике, стилистике газетного текста, лингвокультурологии, применяться в лексикографии, в преподавании русского языка как иностранного.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В лексических значениях имён существительных тематической группы «неживая природа» выделяются признаки, релевантные для вычленения, сопоставления, разграничения в окружающей действительности носителями языка не только объектов земной, водной, воздушной стихий и явлений природы, но и других реалий.
2. Использование рассматриваемых лексических единиц в текстах разновременных региональных газетных изданий характеризуется расширением их парадигматических и синтагматических связей, увеличением частотности употребления в контекстуальных значениях.
3. В процессе функционирования субстантивов тематической группы «неживая природа» в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» их семантический потенциал реализуется поразному, что проявляется в способности исследуемых существительных выступать средством выражения дифференцированного восприятия носителями языка различных сфер жизни общества в советский и постсоветский периоды.
4. Различия языковой картины мира, представленной в разновременных текстах областных газет, выражаются, главным образом, при помощи переносных значений анализируемой лексики. В значениях «природные образования» и «природные явления» отражено специфическое восприятие жителями региона географических и природно-климатических особенностей Нижнего Поволжья.
Апробация работы. Основные положения исследования сообщались на международных конференциях «Модернизация и традиции — Нижнее Поволжье как перекресток культур», посвященной 100-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева [Волгоград, 2006], «Человек в современных философских концепциях» [Волгоград, 2007], «Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов» [Волгоград, 2007], «Проблемы семантики и стилистики текста» [Лодзь, 2008], «Ломоносов» [Москва, 2008], Международном научно-практическом семинаре «Ценностные приоритеты в изучении и преподавании славянских языков» [Волгоград, 2008]; на межрегиональных конференциях «Творчество молодых — региону» [Волгоград, 2007], «Проблемы модернизации региона в исследованиях молодых учёных» [Волгоград, 2008]; региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области [Волгоград, 2007], Борковских чтениях [Волгоград, 2007, 2008, 2009], Краеведческих чтениях [Волгоград, 2008, 2009]; внутривузовских конференциях в Волгоградском государственном университете [Волгоград, 2008, 2009].
По теме исследования имеется 15 публикаций, в том числе 3 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и словарей, приложения.
Во введении определяются актуальность, цель, задачи/ объект, предмет исследования, характеризуются методологические принципы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, материал и методы его анализа, формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе рассматривается формирование понятия языковой картины мира и принципов её изучения в отечественной и зарубежной лингвистике, раскрывается роль имени существительного в репрезентации данного феномена, даётся классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления».
Во второй главе анализируются субстантивы, которые входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования». Особое внимание уделяется изучению семантического потенциала данных существительных, реализуемого в процессе репрезентации русской языковой картины мира в газетных текстах советского периода и в постсоветской региональной печати.
Третья глава посвящена анализу существительных тематической подгруппы «природные явления», выявлению свойств, определяющих роль данных субстантивов в репрезентации русской языковой картины мира в региональных печатных СМИ советского и постсоветского периодов.
В заключении излагаются основные результаты исследования.
В приложении даётся классификация имён существительных тематической группы «неживая природа», приводятся таблицы и диаграмма, обобщенно отражающие результаты исследования.
ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Вводные замечания
В данной главе рассматривается формирование понятия языковой картины мира и принципов её изучения в отечественной и зарубежной лингвистике, раскрывается роль имени существительного в репрезентации данного феномена, даётся классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления».
1.1. Исторические основы разработки понятия языковой картины мира
в научной литературе
Языковая картина мира является одной из разновидностей общей картины мира [Попова, 2007, с. 53].
Термин «картина мира», или «модель мира», «образ мира», используется для обозначения системы знаний, представлений человека об окружающей действительности, «мировоззренческих структур, лежащих в основе культуры определённой исторической эпохи» [Гураль, 2008, с. 14].
В настоящее время картина мира как категория науки является эффективным гносеологическим инструментом для ученых, занимающихся исследованием проблем гуманитарного характера, особенностей осмысления и интерпретации человеком объектов окружающей действительности, явлений, процессов и их признаков.
Основы понятия языковой картины мира были заложены в трудах В. фон Гумбольдта, в которых впервые получили глубокое осмысление идеи национальной специфики языков, их внутренней формы, тесной связи языка
с мышлением, культурой народа.
Сущность языковой картины мира заключается, по мнению В. фон Гумбольдта, в том, что «язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык» [Гумбольдт, 1984, с. 68]. Язык способен влиять на развитие духовных сил человека и формирование его мировоззрения, служить средством познания действительности и отражения духа и характера народа, которые, в свою очередь, позволяют выявить различия между языками.
Важным в теории В. фон Гумбольдта является высказывание о том, что «язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества» [Гумбольдт, 1984, с. 103]. Таким образом, признаётся опосредованный характер языковой картины мира: между языком и действительностью стоят сознание, мышление.
Взгляды В. фон Гумбольдта получили развитие в трудах неогумбольдтианцев, посвящённых исследованию национальной культуры на материале языковых единиц и категорий. Картина мира рассматривается представителями этого направления с точки зрения не только первичных моделирующих систем (язык), но и вторичных (искусство, религия и др.).
Глава неогумбольдтианского направления Й. Л. Вайсгербер подчеркивал зависимость мировоззрения человека от языка — сокровищницы знаний, понятий, форм мышления, убеждений и оценок. Особое внимание при реконструкции языковой картины мира он уделял лексической системе, поскольку словарный запас включает совокупность не только лингвистических знаков, но и понятийных мыслительных средств. Й. Л. Вайсгербер рассматривал язык как средство формирования духа народа, постижения действительности, накопления и хранения информации о ней. Кроме того, в работах философа отмечается стремление определить донаучный характер языковой картины мира, отличие понятий языка от логико-научных понятий [Вайсгербер, 2004, с. 66-67, 101-103].
Изучением связи языка с мышлением, культурой, действительностью занимались и американские этнолингвисты, главным образом Э. Сепир и Б. Л. Уорф, выдвинувшие гипотезу лингвистической относительности. Согласно этому учению, люди воспринимают окружающий мир по-разному, что обусловлено влиянием их родного языка: он навязывает своим носителям особое видение мира.
Сущность гипотезы лингвистической относительности заключается в том, что «люди <…> находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества <…> Мы видим,слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» [Уорф, 1960, с. 135].
Важное место в работах Э. Сепира занимает проблема взаимоотношения языка и культуры. Последняя, по мнению ученого, оказывает влияние на лексико-семантическую систему, изменение значений, словарного состава. Однако учёный признаёт и другие факторы, детерминирующие взаимоотношения языка и культуры, в частности особенности мышления, общественные нормы, обусловливающие языковые различия.
Дальнейшее развитие и оформление теории лингвистической относительности получила в трудах Б. Л. Уорфа. Упорядочение впечатлений человека об окружающей действительности, выделение в ней фрагментов, формирование представлений о мире осуществляются при помощи языковой системы, хранящейся в нашем сознании: «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в основном потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию» [Уорф, 1960, с. 174].
Идеи, близкие понятию языковой картины мира, отражены и в работах русских языковедов ХIX — начала XX вв.
Под сильным влиянием В. фон Гумбольдта складывались лингвистические взгляды А. А. Потебни, в трудах которого отмечается тесная связь языка с мышлением, способность каждого языка по-своему преломлять мир.
А. А. Потебня большое внимание уделяет понятию внутренней формы слова, которая представляет отношение содержания мысли к сознанию. Связь понятия со словом заключается в том, что «слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое» [Потебня, 1960, с. 120]. Уч`ный видел необходимость исследования языка в связи с историей народа, с обращением к фольклору и художественным ценностям, составляющим достояние национальной культуры, постоянно оперируя понятиями «народ» и «народность», считая, что язык выступает как порождение «народного духа» и вместе с тем как источник национальной специфики народа («народности»).
Указание на тесную взаимосвязь языка с мышлением, отражение в нём результатов познания человеком окружающей действительности содержится в работах Ф. И. Буслаева, который отмечал данную особенность языка, в частности, при рассмотрении лексических единиц, их значений: «Словом мы выражаем не предмет, а впечатление, произведённое оным на нашу душу» [Буслаев, 1992, с. 273].
Большое значение для формирования понятия языковой картины мира имели труды Л. В. Щербы и В. А. Богородицкого, где были заложены основы для противопоставления наивной и научной картины мира. Л. В. Щерба обращал внимание на различие представлений об одном предмете у ученых и людей, жизнь которых не связана с наукой: если прямой линии в геометрии даётся дефиниция «кратчайшее расстояние между двумя точками», то в быту её определяют как «линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)» [Щерба, 1974, с. 280]. Мысль о несоответствии наивной картины мира научным понятиям, о нетождественности восприятия окружающей действительности носителями языка, относящимися к разным социальным группам, мы находим в высказываниях В. А. Богородицкого о различиях представлений о звуке и грозе у простолюдина и физика и сходстве представлений об этих явлениях у разных физиков [Богородицкий, 1907, с. 111].
Итак, в трудах западных лингвистов и русских языковедов XIX — начала XX вв. были заложены основы понятия языковой картины мира: подробное рассмотрение получили проблемы взаимоотношения языка и мышления, языка и культуры, национальной специфики языка, была признана способность языка отражать действительность, закреплять результаты мыслительной деятельности, особенности общественного строя, порядков, обычаев, традиций того или иного народа, появились предпосылки для разграничения языковой и научной картин мира. Особую ценность для дальнейшего осмысления понятия языковой картины мира представляют определение данного феномена как системного образования, выявление отношений между действительностью, сознанием и языком, внимание к лексическому уровню, раскрытие различных факторов, влияющих на развитие языков, их отличия друг от друга.
1.2. Проблема изучения языковой картины мира в современной лингвистике
К основным проблемам, связанным с исследованием языковой картины мира в современной лингвистике, относятся вопросы о содержании понятия данного феномена и подходах к его рассмотрению.
Одним из первых термин «языковая картина мира» (языковая, лингвистическая, или словесная, модель мира) стал использовать в своих исследованиях Г. А. Брутян. Данное понятие учёный противопоставляет понятийной, или логической, модели мира, которая представляет собой логическое воспроизведение действительности и является инвариантом, общим для всех людей, независимо от того, на каком языке они говорят и мыслят. Если логическая модель мира сообщает нам главную, основную информацию об окружающей действительности, то языковая картина мира содержит дополнительные сведения о мире, способствует его полному, всестороннему отражению в сознании людей, обладает национальной спецификой [Брутян, 1969, с. 52, 56].
Впервые в отечественной науке наиболее полное и чёткое освещение данного феномена было представлено в коллективной монографии «Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира» (1988), авторами которой рассматриваются функции языковой картины мира, средства её создания, отношение к концептуальной картине мира. Особое внимание обращается на то, что язык не отражает, а отображает действительность, накладывает на объективную реальность печать субъективного мира человека. Картина мира трактуется как исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании её носителей и являющийся результатом всей духовной активности человека [Постовалова, 1988, с. 19]. При этом язык, наряду с другими знаковыми средствами (жестами, музыкой, мимикой, ритуалами и др.),. рассматривается как способ её опредмечивания, но, в отличие от всех существующих семиотических систем, только язык может эксплицировать, выражать вербально различные виды картины мира.
Дальнейшее формирование понятия языковой картины мира шло по пути выявления её сущностных характеристик, средств создания и репрезентации, определения соотношения с концептуальной и научной картинами мира. Несмотря на различные трактовки этого термина в современной лингвистической науке, все исследователи при его толковании исходят из того, что языковая картина мира имеет антропоцентрический характер, является разновидностью картины мира и несёт на себе её отпечаток, который закрепляется в единицах и категориях языка.
Представляется возможным выделить три основных подхода к определению языковой картины мира в зависимости от того, какой критерий положен в основу трактовки данного феномена.
В основе первого типа дефиниций лежит выявление связей между реальной картиной мира, языковой и концептуальной (когнитивной, понятийной, культурной) картиной мира [Казыдуб, 2006; Попова, 2002; Тер-Минасова, 2000; Шведова, 1999 и др.]. Языковая картина мира рассматривается как отражение реальной картины мира через концептуальную при помощи средств языка. Она является вторичной формой отражения мира, функция языка в данном случае заключается в том, что он вербализует концептуальную картину мира, хранит её и передаёт из поколения в поколение.
Второй вид определений языковой картины мира базируется на противопоставлении данного понятия научной картине мира [Апресян, 1995; Рахилина, 2000; Урысон, 2003 и др.]. Данный феномен трактуется как наивная картина мира, отражение обычных, житейских представлений человека об окружающей действительности в языке. Наивная картина одного и того же участка мира отличается от логической, научной картины. Различие этих типов картин мира выявляется, например, при исследовании тех слов естественного языка, которые используются в качестве терминов (звезда, высота, точка, линия): «значение научного термина развилось, «выросло» из значения обычного слова, однако термин определяется в системе научных понятий, а она бывает весьма далека от системы лексических значений, закреплённых в естественном языке» [Урысон, 2003, с. 11].
В рамках третьего подхода понятие языковой картины мира определяется через её отношение как к когнитивной, так и научной картине мира [Арутюнова, 2000; Корнилов, 2003; Маслова, 2007 и др.]. Она представляет собой совокупность знаний, представлений человека об окружающем мире, запечатлённых в языковой форме. С другой стороны, языковая картина мира синонимична наивной картине мира, которая складывается как ответ на практические потребности человека, носит донаучный характер, формируя специальные картины мира (химическую, физическую и др.).
Неоднозначность трактовок понятия языковой картины мира объясняется множеством факторов, из которых одним из ведущих является существование различных направлений её исследования.
Существующие классификации подходов к изучению отражения в языке результатов восприятия человеком окружающей действительности выстраиваются на различных основаниях: методах и материале исследования языковой картины мира, средствах е ё формирования и описания [Вендина,
1998; Пименова, 2007; Урысон, 2003; Яковлева, 1994].
Нами принят подход к рассмотрению языковой картины мира, основанный на анализе важнейшего средства её создания и репрезентации — разноуровневых языковых единиц и категорий — и определяющий следующие направления исследования данного феномена:
1. Значительная доля средств формирования и отражения русской языковой картины мира приходится на лексическую систему. Именно лексика, как справедливо отмечает Т. И. Вендина, апеллирует к смысловым и ценностным параметрам модели мира, репрезентирует классификацию человеческого опыта [Вендина, 1998, с. 6]. Описание языковой картины мира происходит, главным образом, путём анализа лексических и фразеологических значений, категорий полисемии, антонимии и синонимии [Апресян, 1995, 20066; Падучева, 2004; Телия, 1996 и др.].
В качестве важнейшего средства создания и репрезентации языковой картины мира многими учёными признается метафора [Резанова, 2003; Скляревская, 1993; Телия, 1988 и др.]: она способна выступать не только в номинативной функции, но и в экспрессивной, характеризующей, когда на первый план выходят коннотативные компоненты значения, нередко придающие слову национальную специфику. Исследование метафоры позволяет выявить значимость предлогического, чувственного и предметно-действенного познания в формировании языковых смыслов» [Резанова, 2003, с. 17].
Системность языковой картины мира, способность к определённой организации языкового материала проявляются не только в области лексических и фразеологических единиц, но и на более высоком и сложном уровне, который образуют, в частности, лексико-семантические и тематические группы. Каждый из подобных классов соотносится с определённым фрагментом русской языковой картины мира, который становится объектом лингвистических исследований [Гак, 2002; Ильин, 2008; Рудыкина, 2008; Рябцева, 2000 и др.].
2. Значение ресурсов морфемно-словообразовательного уровня языка для создания и репрезентации русской наивной картины мира определено в ряде монографий [Вендина, 1998; Земская, 1992; Кубрякова, 1988 и др.]. При помощи средств деривации в языке отражаются свойства и качества денотатов, их связи, отношения, функции, значимость для носителей языка, создаются определённые стереотипы для обозначения реалий. В единицах морфемно-словообразовательного уровня соединяется новый опыт со старым, сохраняются представления человека о действительности, зафиксированные внутренней формой слова, их связь с формированием и функционированием различных языковых единиц и категорий. Изучение русской языковой картины мира осуществляется путём установления деривационных моделей, средств и способов, наиболее активно используемых для создания новых слов.
3. Изучение языковой картины мира может проводиться на морфологическом уровне. В этом случае в качестве средств её формирования и отражения выступают различные знаменательные части речи [Богуславская, 2006; Давыдкина, 2005; Калинина, 2007; Милованова, 2005; Падучева, 1996; Шмелев, 2002 и др.], служебные части речи [Апресян, 2006а; Скорик, 2005; Степанова, 2006 и др.], при этом объектом исследования становятся морфологические категории, грамматические значения, особенности их реализации в процессе функционирования слов.
4. На синтаксическом уровне в качестве единиц, участвующих в выражении концептуальной картины мира в языке, учеными рассматриваются синтаксические конструкции, средства связи между словами и предложениями, порядок слов, члены предложения [Ахманова, 2003; Волохина, 1999; Еремеева, 2003; Серебренников, 1988 и др.].
Фонетические элементы, будучи односторонними единицами языка, не могут самостоятельно служить средством создания и репрезентации языковой картины мира. Однако они активно принимают участие в этом процессе, взаимодействуя с элементами других языковых уровней, в качестве которых выступают, например, ритмико-интонационное членение предложения, фоносемантические средства [Ахманова, 2003; Кодзасов, 2000; Логинова, 2002 и др.].
Изучение взаимодействия разноуровневых единиц как способа реконструкции русской языковой картины мира проводится также в лексико-морфологическом [Косова, 2008; Розина, 2000 и др.], лексико-синтаксическом [Бабенко, 1988; Буров, 2003 и др.] и морфолого-синтаксическом аспектах [Красильникова, 1988; Падучева, 2001 и др.].
В данном диссертационном исследовании мы, вслед за Н. Ю. Шведовой, понимаем языковую картину мира как «выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, <…> представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, всё то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» [Шведова, 1999, с. 15]. Изучение отражения в языке восприятия человеком окружающего мира проводится нами путём выявления семантических и функциональных свойств имен существительных, которые относятся к определенному тематическому классу, выражают обычные, житейские представления человека о действительности, отграниченные от научной картины мира.
1.3. Имя существительное как средство репрезентации русской языковой картины мира
Имя существительное занимает особое место в системе средств репрезентации языковой картины мира, являясь её «важнейшим составным
элементом» [Лукина, 2003, с. 176].
Такое положение субстантивов обусловлено их категориальным грамматическим значением предметности, под влиянием которого мы можем мыслить предметно, в форме названия, даже отвлеченные понятия о качествах и действиях [Виноградов, 1972, с. 46]. Слова данной части речи называют предметы в широком смысле слова: вещи, лица, вещества, живые существа и организмы, факты, события, явления, а также независимые самостоятельные субстанции непроцессуальных и процессуальных признаков — качеств, свойств, действий, процессуально представленных состояний [Русская грамматика, 1980, т. I, с. 460]. Понятие предметности связано с материальностью (субстанциональностью), с категорией орудийности, качества, формы, количества, пространственности, воздействия на другие предметы [Лукина, 2003, с. 32].
Среди других преимуществ имени существительного как средства репрезентации языковой картины мира следует отметить его способность к номинации, которая обнаруживается у него в наибольшей мере по сравнению с другими частями речи [Нифанова, 2005, с. 144], и к существованию как специфической подсистемы, закрепляющей качества, действия за определённым предметом [Лукина, 2003, с. 146]; самую высокую дериватогенную активность [Черникова, 2001, с. 83], количественное преобладание над другими частями речи и высокий изобразительно-выразительный потенциал [Голуб, 2004, с. 314].
Роль имён существительных в языковой картины мира также подтверждают данные лингвистического эксперимента, направленного на выявление ассоциаций [Общее языкознание, 1970, с. 232], результаты которого позволяют говорить о наличии в сознании носителя языка «предпочтительных» в грамматическом отношении типов ассоциаций: на существительное испытуемый чаще всего реагирует существительным и при этом в 77% случаев — парадигматически, а на непереходные глаголы — синтагматически (в 58% случаев).
Таким образом, имя существительное является наиболее подходящей единицей для фрагментирования, кадрирования мира при помощи языка, что обусловлено особенностями его грамматической и лексической семантики, ролью в языковом, коммуникативном и когнитивном пространстве.
1.3.1. Лексическая семантика имён существительных тематической группы «неживая природа» как средство репрезентации языковой картины мира
Особенности лексической и грамматической семантики имени существительного позволяют ему активно участвовать в создании тематических и лексико-семантических групп.
Под тематической группой (далее — ТГ) в нашей диссертации понимаются «объединения слов, основывающиеся <…> на классификации самих предметов и явлений» [Филин, 1982, с. 231]. В состав тематических групп входят лексико-семантические группы (далее — ЛСГ) — «классы слов одной части речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент (или компоненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компоненты, а также характеризующихся сходством сочетаемости и широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной многозначности» [Кузнецова, 1989а, с. 7].
Л. Г. Бабенко указывает на способность существительных формировать типовую ситуацию, денотативную сферу, отображающую определённый фрагмент мира, и её компоненты. При этом субстантивы играют в создании типовой ситуации такую же важную роль, как и глаголы, позволяют разработать классификацию лексем, репрезентирующих предметы действительности, «на основании антропологического подхода, учитывающего процесс освоения, осознания, ословаривания человеком окружающего мира» [Бабенко, 2005, с. 16-17].
В качестве приоритетной области действительности, репрезентируемой определёнными классами имён существительных, учёными признаётся денотативная сфера «живое существо» и все сферы, изначально связанные с ней, в том числе «неживая природа» [Бабенко, 2005; Шведова, 1998, 1999 и др.], являющаяся «важнейшей частью мира, в котором живёт человек» [Нифанова, 2005, с. 72].
Природные объекты и явления находятся в отношениях взаимодействия, соподчинения, взаимообусловленности, что позволяет представить природу как «определённым образом организованную систему» [Касьянова, 1984, с. 4]. Данное утверждение находит выражение в языке, оно лежит в основе многочисленных классификаций слов, соотносимых с соответствующими реалиями. Результаты систематизации лексики, именующей природные образования и явления, зафиксированы в идеографических словарях. Однако применение разнообразных способов фрагментирования языковой картины мира сказывается на том, что слова со значением «природные образования» и «природные явления» получают в подобных лексикографических источниках различный статус.
В «Тематическом словаре русского языка» под ред. В. В. Морковкина слова, обозначающие природные образования и явления, входят в раздел «природа», имеют различную частеречную отнесённость и противопоставлены двум денотативным классам: «человек» и «общество».
Составителями «Большого толкового словаря русских существительных» под ред. Л. Г. Бабенко (далее — БТСРС) выявлена 41 представленная субстантивами денотативная сфера, главной из которых является сфера «живое существо». После неё дано последовательное описание сфер, которые изначально связаны с ней. Прежде всего к ним относятся денотативные сферы «растения и грибы», где рассматриваются слова, обозначающие объекты растительного мира, и «неживая природа», куда входят лексические единицы со значениями «природные образования» и «природные явления».
В «Русском семантическом словаре» (далее — РСС) под ред. Н. Ю. Шведовой рассматриваемые нами слова разделены на два семантических класса: имена, обозначающие естественные природные реалии, и абстрактные существительные со значением состояния природы.
Таким образом, классификация субстантивов со значениями «природные образования» и «природные явления» может осуществляться различными способами. В «Тематическом словаре русского языка» данная группа выделяется на основании противопоставления мира человека и общества миру природы и рассматривается вместе со словами, обозначающими растения, в рамках одной тематической области. Составители БТСРС и РСС учитывают лексическую и грамматическую семантику существительных. Но если в БТСРС в качестве одного из главных критериев распределения слов по денотативным сферам служит категория одушевлённости / неодушевлённости, на основании которой слова со значением «растения» оформляются в виде отдельного сегмента и обособляются от лексических единиц, называющих объекты и явления неживой природы, то в РСС — признак конкретности / отвлеченности.
В данной работе мы придерживаемся концепции составителей БТСРС. Материалы других словарей привлекаются для расширения объема некоторых ЛСГ, конкретизации значений слов и при уточнении, дополнении информации, извлечённой из БТСРС, а также в процессе анализа переносных значений лексических единиц.
Существительные, обозначающие природные образования и явления, рассматриваются нами как единицы ТГ «неживая природа». В предлагаемой классификации учитывается разграничение земной, водной, воздушной стихий и природных явлений, что обусловлено особенностями самой неживой природы и её ролью в жизни человека. На этом основании в рамках указанной ТГ выделяются тематические подгруппы имён существительных, объединяемых значением «природные образования», — «земные образования», «водные образования», «небесные образования» — и лексические единицы, включаемые в тематическую подгруппу «природные явления». В тематическую подгруппу «земные образования» входят ЛСГ «равнина», «возвышенности и их части», «углубления и их части», «горные породы, ископаемые, камни», «почва». К тематической подгруппе «водные образования» относятся ЛСГ «состояние воды», «частицы воды», «водные пространства», «водные потоки», «часть водного пространства / потока». ЛСГ «часть неба» и «небесные тела» объединяются в рамках тематической подгруппы «небесные образования». Тематическая подгруппа «природные явления» представлена существительными ЛСГ «оптические явления», «звуковые явления», «движение в водном пространстве / потоке», «атмосферные осадки», «ветер», «стихия», «погода».
В отличие от составителей существующих классификаций, мы включаем в состав ТГ «неживая природа» только такие субстантивы, которые обозначают естественные природные образования и явления, возникшие без вмешательства человека и получившие название благодаря объективным характеристикам, таким как пространство, размер, объём, количество, структура, физические свойства, состояние, время, процесс, интенсивность и др. Понятие о данных объектах и явлениях не должно возникать лишь с позиции человека, применительно к возможности использования человеком [Скляревская, 1993, с. 68].
В этой связи возникает вопрос о правомерности отнесения к группе имён, обозначающих естественные природные реалии, таких, например, слов, как колея [РСС, т. I, с. 601], насыпь [БТСРС, с. 105].
Существительное колея обозначает неприродное образование: «канавка, углубление, глубокий след, оставленный колёсами или полозьями на грунтовой или заснеженной дороге» [РСС, т. I, с. 601]. В семной структуре значения данного субстантива выделяется компонент ‘часть средства передвижения’, указывающий на то, что причина возникновения именуемого им объекта связана с действием человеческого фактора.
В значении существительного насыпь «искусственное возвышение из земли, сыпучих отходов производства» [Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов под ред. Н. Ю. Шведовой (далее — ТСРЯ), с. 497] выделяются сема ‘искусственный’, которая противопоставляет именуемое данным словом образование природным, естественным объектам, и сема ‘отходы производства’, отражающая один из результатов деятельности человека.
Лексическое значение субстантивов, как и других частей речи, целесообразно рассматривать как совокупность семантических компонентов (признаков), или сем, которые определяются как минимальные предельные единицы плана содержания [Новиков, 1990, с. 437]. Среди них выделяются категориально-лексические семы — главные, доминирующие, лежащие в основе общей лексико-семантической классификации слов, и реализующие её интегральные и дифференциальные семы [Кузнецова, 19896, с. 33—34]. Кроме того, в значении слов могут быть представлены потенциальные семы, которые не осмысляются в качестве существенных при изолированном рассмотрении слова, но могут актуализироваться во вторичных значениях слова или в его отдельных потреблениях [Там же, с. 34]. Для обозначения иерархически организованной совокупности сем нами используется термин семная структура значения слова [Гак, 1990, с. 262]. Семная структура значения отграничивается от семантической структуры слова, под которой понимается единство взаимодействующих разноуровневых значений, организованных в пределах отдельного слова определённым способом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи, тексте [Лопушанская, 1988, с. 5], и от смысловой структуры словоформы, функционирующей в контекст [Лопушанская, 1996, с. 8]. Кроме того, мы учитываем разграничение узуальных значений, устоявшихся в системе языка, принятых [Ахманова, 2004, с. 164], и контекстуальных, соотносимых со смысловой структурой, в которой наблюдается изменение категориально-лексической семы [Лопушанская, 1996, с. 8-9]. Термин лексико-семантический вариант (далее — ЛСВ) мы рассматриваем как синоним лексического значения [Шмелев, 2006, с. 69], а оттенок значения — как побочное, сопутствующее значение, существующее рядом с основным [Бобунова, 2009, с. 196].
Традиционно в структуре значения выделяются денотативный (сигматический, предметный, ситуативный), сигнификативный, прагматический, парадигматический и синтагматический компоненты [Кобозева, 2000, с. 80-94; Новиков, 1982, с. 91-108; Языковая номинация, 1977, с. 184-189].
Значимость денотативного и сигнификативного компонентов в семной структуре значения того или иного слова неодинакова. Это особенно заметно при сопоставлении конкретной и абстрактной лексики: если в словах с конкретным значением доминирует денотативный аспект, то в значении абстрактных слов преобладает сигнификат. С точки зрения лексической семантики, к существительным с конкретным значением относятся лексемы, «денотатами которых являются образные представления о реально существующих материальных объектах», а слова с отвлечённой семантикой обозначают «объекты, свойства и отношения, полученные в результате абстрагирования, отвлечения от конкретных объектов, свойств, отношений» [Кобозева, 2000, с. 82, 84]; «конкретные имена существительные можно назвать именами предметов или их классов, абстрактные — именами признаков» [Уфимцева, 1988, с. 121]. Имена существительные ТГ «неживая природа» являются хорошим примером, демонстрирующим подобное различие: существительные гора, водоём, камень являются конкретными, так как репрезентируют природные образования, имеющие определённые размеры, форму, структуру, пространственные границы; субстантивы бездождье, засуха, темнота относятся к классу абстрактных имён, в них на значение предметности накладывается семантика качества и состояния.
Прагматический аспект значения служит специфическим языковым выражением отношения носителя языка к объекту действительности, который обозначает слово. Прагматическое значение зависит от мировоззрения, возраста, образования, профессии и других особенностей говорящего. Прагматический компонент значения может выступать как дополнительный, коннотативный признак в семной структуре слова Он способен накладываться на сигнификативное и денотативное значения, что характерно для слов, в которых эмоционально-оценочная информация заложена самой действительностью: например, в семной структуре слова порог — «каменистое поперечное возвышение дна реки, нарушающее плавность её течения и затрудняющее судоходство» [Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова (далее — БТС), с. 926]. Изменение рельефа дна создает препятствия для человека, из-за чего получает отрицательную оценку, которая содержится в коннотативном компоненте значения ‘затрудняющее’.
Парадигматическое структурное значение характеризует нелинейные отношения знаков, образующих определённый класс взаимосвязанных и противопоставленных однородных лексических единиц, и определяется общим значением той группы слов, с которой данное слово имеет содержательные связи. В этом компоненте значения выражаются отношения между существительными на парадигматической основе, содержится способность вступать в синонимические, антонимические и гиперо-гипонимические отношения, занимать определённое положение в различных семантических классификациях. Парадигматическими отношениями связаны, например, такие субстантивы ТГ «неживая природа», как отблеск — отсвет (отношения синонимии), свет — тьма (отношения антонимии), ветер — вихрь, метель, суховей (гиперо-гипонимические отношения: слова вихрь, метель, суховей выступают как гипонимы по отношению к существительному ветер, являющемуся гиперонимом, и как согипонимы по
отношению друг к другу).
Синтагматическое структурное значение характеризует линейные отношения знаков. Сравнительный анализ субстантивов ТГ «неживая природа» показывает, что на многие лексические единицы с семантикой «природные явления» (гололедица, сухота, тьма и др.), в отличие от имен со значением «природные образования», накладывается ограничение в плане сочетаемости с зависимыми словами во множественном числе, что обусловлено, главным образом, особенностями обозначаемых данными существительными объектов действительности.
В разных языках содержательная сторона какого-либо слова в большинстве случаев раскрывается как совокупность нескольких лексических значений, или ЛСВ, и русские имена существительные ТГ «неживая природа», основной массив которых составляют полисеманты, не являются исключением.
Получить представление о русской языковой картины мира можно путём исследования взаимосвязи значений в структуре полисеманта и выявления словообразовательной мотивированности. Посредством определения мотивировочных признаков в семантической и словообразовательной структуре субстантивов раскрывается внутренняя форма слова, обнаруживаются глубокие связи между предметами действительности в сознании человека, его способность к образному, ассоциативному мышлению.
В семантической структуре существительных могут быть представлены результаты модификации значений (сужение или расширение), переноса наименования одного предмета на другой по их сходству (метафорический перенос) или по смежности (метонимический перенос).
В нашем исследовании основное внимание уделяется метафорически-переносным значениям субстантивов ТГ «неживая природа», так как они обладают наибольшим семантическим потенциалом в сфере средств репрезентации русской языковой картины мира. Их переносные значения проанализированы во второй и третьей главах.
В настоящей главе остановимся на рассмотрении существительных, в семантической структуре которых производными являются значения «природные образования» и «природные явления».
Среди существующих механизмов развития полисемантичной структуры слова немаловажное место занимает образование ЛСВ, мотивированных единицами ТГ «человек». Такой принцип семантического переноса принято называть антропоморфизмом: «с глубокой древности по мере освоения мира человек переносил наименования своих свойств, частей тела и т. п. на всё, что он воспринимал и познавал в окружающей природе <…>» [Скляревская, 1983, с. 59]. Субстантивы ТГ «неживая природа» являются ярким примером, подтверждающим данное положение [Цивилева, 2009].
Так, одной из моделей образования значений слов ТГ «неживая природа» является одежда человека, её части —> природный объект: рукав — «часть одежды, покрывающая руку» —> «ответвление от главного русла реки, гл. обр. всё устье» [ТСРЯ, с. 843]. Прямое и переносное значения и соответственно ЛСГ «одежда» и «часть водного пространства / потока» связаны при помощи мотивирующего признака ‘положение по отношению к основной части’.
Среди существительных, репрезентирующих природные явления, с ТГ «человек» соотносится лексема крупа, которая в значении «снег в виде мелких круглых зёрен» [ТСРЯ, с. 384] входит в состав ЛСГ «атмосферные осадки». Данное значение образовано при помощи метафорического переноса от ЛСВ «цельное дроблёное зерно нек-рых растений, употр. в пищу» [Там же, с. 384], который входит в состав ЛСГ «питание». Основанием для возникновения нового значения послужило сходство внешнего вида денотатов: и зёрнам, и частицам снега свойственны круглая форма и небольшой размер.
Итак, при исследовании лексической семантики обозначающих природные образования и явления имён существительных как средства репрезентации русской языковой картины мира следует учитывать их принадлежность к определённым тематическим подгруппам и ЛСГ, уделять особое внимание анализу прагматического компонента значений и сем, связывающих прямые и переносные ЛСВ.
1.3.2. Грамотическая семантика имён существительных тематической группы «неживая природа» как средство репрезентации языковой картины мира
Изучение лексической семантики имени существительного было бы неполным без учёта семантики его грамматических категорий. Грамматическая характеристика субстантивов позволяет выявить некоторые особенности его лексической семантики, способствует разграничению полисемантов и омонимов, оттенков значений и ЛСВ, разграничению единиц ЛСГ.
Способность слов данной части речи выступать в качестве инструмента, при помощи которого язык отражает действительность, фиксирует представления человека о мире, обусловлено прежде всего грамматическим значением существительного — предметностью.
Одной из главных составляющих понятия предметности является расположение в пространстве [Кошелев, 2000, с. 40-43]. Выделение в области пространства объёмной, линейной и плоскостной частей даёт основание говорить о наличии значения предметности у слов, которые нельзя с полным основанием отнести к предметным существительным. Примером могут служить субстантивы, обозначающие природные явления: звук, луч, тень. Основаниями для отнесения слов, у которых предметное значение практически отсутствует, так как их референты не конституируют областей пространства, к разряду существительных служат грамматическая форма и стремление носителя языка придать состояниям, действиям, признакам статус предметов как самостоятельных, исходных элементов мира Так, при употреблении слова гром мы приписываем образу, который возникает в нашем сознании, самостоятельное положение в небесном пространстве.
Грамматическое значение существительного выражается в категориях рода, числа и падежа, каждая из которых играет специфическую роль в создании фрагментов языковой картины мира.
Роль разграничения субстантивов по роду в процессе отражения представлений человека о мире в языке становится заметной при рассмотрении слов, обозначающих лица или животных мужского или женского пола. В остальных случаях следует обращать внимание на тенденции, выявляемые при анализе лексической и словообразовательной семантики существительных определённых ТГ и ЛСГ и свидетельствующие о семантико-когнитивном подходе носителя языка к распределению некоторых существительных по родовым классам. Например, среди слов, обозначающих минералы, отмечается преобладание существительных мужского рода над субстантивами женского рода (отношение 59:7, по данным БТСРС).
Информация о представлениях человека об окружающем мире содержится и в семантике категории числа. Значение данной категории в формировании русской языковой картины мира проявляется в её способности выражать количественную характеристику обозначаемых существительными предметов [Лукина, 2003, с. 140], служить средством разграничения имён с абстрактным / конкретным значением, в возможности замены в некоторых контекстах форм единственного числа множественным и наоборот, в наличии в морфологической системе языка существительных pluralia tantum и singularia tantum. Роль категории числа субстантивов тематической подгруппы «природные явления» для реконструкции русской языковой картины мира определяется, например, при анализе слова осадки. Наличие у данного существительного формы только множественного числа может быть объяснено тем, что оно является гиперонимом слов снег, дождь, роса и т. п., способно обозначать большое количество выпадающей на землю атмосферной жидкости и употребляться в такого рода словосочетаниях, как среднегодовое количество осадков [БТС, с. 727]. Множественное число существительного осадки может также выражать семантику неопределенности, в частности, в ситуации, когда нельзя предугадать, что именно выпадет: снег или дождь: Завтра ожидаются осадки. Кроме того, форма множественного числа данного субстантива служит одним из критериев разграничения ЛСВ полисеманта: осадок — «частицы вещества», осадки — «атмосферная влага».
Специфика семантики категории падежа, способность вступать во взаимодействие с другими морфологическими категориями и выражать семантические оттенки отвлечённых значений позволяет рассматривать её как средство репрезентации русской языковой картины мира: «в падежных формах имени существительного отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности» [Виноградов, 1972, с. 139], семантика падежей основывается на свойственном предметам реального мира пространственном, временном, причинном, использующем отношении и т. д. [Лукина, 2003, с. 169]. Анализ падежных форм даёт возможность выявить синтагматические свойства существительного, дополнительные компоненты его лексического значения, особенности реализации потенциальных возможностей. Так, при функционировании субстантивов ТГ «неживая природы» в форме творительного или родительного падежей может актуализироваться семантика сравнения: <…> фашистский самолёт камнем упал на землю (Сталинградская правда (далее — СП), 02.07.1941), <…> вулкан эмоций с энергией горного водопада (Волгоградская правда (далее — ВП), 19.05.2001), что свидетельствует об образном мышлении носителей языка, способствует появлению новых значений у лексических единиц.
Не менее важное значение для отражения представлений человека в языке имеют лексико-грамматические разряды субстантивов: одушевлённые / неодушевлённые, собственные / нарицательные, конкретные / отвлечённые, собирательные и вещественные имена существительные [Русская грамматика, 1980, т. I].
Конкретные имена обозначают такие предметы, которые исчисляемы, ограничены во времени и пространстве, могут использоваться человеком, восприниматься всеми органами чувств [Калинина, 2007, с. 61]. Абстрактные существительные называют отвлеченный признак, присущий разным объектам действительности, отвлечённое действие, которое может совершаться разными деятелями или производиться над разными объектами, отвлечённое состояние или чувство, которое может возникнуть в разных ситуациях, отвлечённое понятие, которое существует только в человеческом сознании и которое нельзя представить наглядно [Там же, с. 66]. В разделении субстантивов на конкретные и абстрактные отразилось стремление носителей языка разграничить чувственные и рациональные, аналитические составляющие процесса познания окружающего мира, объекты действительности, обладающие разной степенью проявления в них категории субстанциональности.
Разграничение собственных и нарицательных имён позволяет обозначить в структуре русской языковой картины мира область, занимаемую ономастической лексикой, которая выполняет функцию выделения определённого предмета в ряду подобных. Так, существительное Волга, выполняет адресную функцию, обозначая одну из рек. Кроме того, данное имя собственное содержит фоновую информацию, также способствующую выделению Волги среди других рек: данное название воспринимается как наименование великой русской реки, национального символа России, что проявляется, в частности, в народно-поэтическом использовании гидронима в составе образных выражений (Волга-матушка река) [Ильин, 2006, с. 584].
Признак одушевлённости / неодушевлённости лежит в основе тематической классификации субстантивов, противопоставления мира живой природы неживой, которое закреплено, в частности, в одном из значений лексемы природа: «все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир» [ТСРЯ, с. 738], подчинения ТГ «человек» остальных предметных областей, что также отражено в семантике слова природа: «весь органический и неорганический мир в его противопоставлении человеку (охрана природы, взаимоотношения человека и природы)» [Гам же, с. 738].
Проведённый анализ позволяет говорить о таких значимых для репрезентации русской языковой картины мира грамматических свойствах имён существительных ТГ «неживая природа», как значение предметности, принадлежность данных слов к разряду неодушевлённых существительных, категории рода, числа, падежа.
Выводы по главе
Представление о языковой картине мира, специфичной для каждого отдельного языка и накладывающей отпечаток на жизни народа, восходит к идеям В. фон Гумбольдта, получившим далее своё выражение в работах неогумбольдтианцев и в рамках гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа.
В трудах западных лингвистов и русских языковедов ХIХ — начала XX вв. были заложены основы понятия языковой картины мира: подробное рассмотрение получили проблемы взаимоотношения языка и мышления, языка и культуры, национальной специфики языка, была признана способность языка отражать действительность, закреплять результаты мыслительной деятельности, особенности общественного строя, порядков, обычаев, традиций того или иного народа, появились предпосылки для разграничения языковой и научной картин мира.
Формирование дефиниции языковой картины мира шло по пути разграничения понятий языковой, концептуальной и научной картин мира, определения её сущностных характеристик и средств репрезентации.
Существующие классификации подходов к изучению языковой картины мира строятся на различных основаниях: методах и материале исследования данного феномена, средствах его формирования и описания. В качестве главного направления изучения языковой картины мира нами принят подход, основанный на анализе важнейшего средства её создания и репрезентации — разноуровневых языковых единиц и категорий.
Описание русской языковой картины мира эффективнее всего проводить путём изучения отдельных её фрагментов. Имя существительное занимает особое положение среди средств её создания и репрезентации, что обусловлено лексической и грамматической семантикой слов данной части речи, ролью в формировании определённых денотативных сфер, различных объединений имён, соотносимых с определёнными классами предметов и явлений окружающей действительности.
Одним из средств репрезентации русской языковой картины мира служат субстантивы, которые обозначают природные образования и явления и входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования», «природные явления» тематической группы «неживая природа». Анализ лексической и грамматической сторон данных существительных показывает, что лексико-семантические свойства исследуемых субстантивов обладают большим потенциалом для репрезентации русской языковой картины мира, чем их грамматические признаки. В этой связи во второй и третьей главах диссертационного исследования основное внимание будет уделено изучению лексикосемантических свойств имён существительных тематической группы «неживая природа», особенностей их реализации в процессе функционирования указанных субстантивов в текстах разновременных региональных печатных СМИ.
ГЛАВА 2. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ» КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ГАЗЕТАХ «СТАЛИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» И «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА»
Вводные замечания
В главе анализируются субстантивы, которые входят в состав тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования». Особое внимание уделяется изучению семантического потенциала данных существительных, реализуемого в процессе репрезентации русской языковой картины мира в газетных текстах советского периода и в постсоветской региональной печати.
2.1. Имена существительные тематической подгруппы «земные образования»
Тематическая подгруппа «земные образования» выделяется в результате противопоставления небесным и водным объектам образований, находящихся на земной поверхности или входящих в состав земной коры.
Семная структура данных существительных (табл. 1) показывает, что именуемые ими природные объекты отличаются друг от друга пространственными, физическими характеристиками, составом, причинами возникновения.
Гипероним данных классов слов, субстантив земля, обозначает природные образования, имеющие в своей основе почву, камень и другие породы. Он так же, как и лексема суша, используется для противопоставления земного пространства водному и небесному.
В процессе номинации объектов неживой природы существительное земля
Таблица 1
Семная структура значений имён существительных
тематической подгруппы «земные образования»
выступает в следующих ЛСВ [БТС, с. 363]: (3) «суша, земная твердь (в отличие от водного и воздушного пространства)», (4) «верхний слой земной коры; почва, грунт // поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ», (5) «рыхлое вещество тёмно-бурого цвета, входящее в состав земной коры».
В процессе функционирования субстантивов в указанных ЛСВ в текстах СМИ в их смысловой cтpyктype актуализируются различные семантические компоненты.
При реализации оттенка значения «поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой ходим; низ» актуализируются потенциальные семы ‘доступность для передвижения, твёрдая поверхность’: Тяжёлой технике нужно было проходить по раскисшей земле (ВП, 07.02.2003); ‘антисанитария, грязь’: Прилавка нехватает¹, и продавцы раскладывают свой товар прямо на земле, в пыли, поминутно отстаивая свои корзины от ног покупателя (СП, 10.07.1938), Несмотря на обилие рынков, торговля с земли продолжается (ВП, 09.10.2003).
В процессе употребления существительного земля в значении «верхний слой земной коры; почва, грунт» в его смысловой структуре могут отражаться значимые для носителя языка свойства обозначаемого им природного образования. К компонентам, указывающим на подобные признаки, прежде всего относится потенциальная сема ‘плодородие’: Земля, на которой раньше не росла пшеница, дала по 5-6 центнеров с гектара (СП, 22.01.1943), Студенты тепло поздравили награждённых наставников, которые готовят их к труду на хлебородной земле (ВП, 17.11.2000).
Значимость данного природного образования для человека также выражается в структуре ЛСВ «территория, находящаяся в чьем-л. владении, управлении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях; почва» [БТС, с. 363]: Как известно, земля — собственность государства, переданная колхозу в вечное пользование, не может быть сдана в аренду или передана другой организации (СП, 06.10.1940), Брошенные земли возвращаются в оборот (ВП, 28.12.2001).
¹ В тексте диссертации сохранены орфографические и пунктуационные особенности
цитируемых источников.
Особую роль в выражении ценности земли для человека играет приём олицетворения: Щедро оплатила колхозная земля труд, затраченный на её обработку (СП, 16.01.1941), Припади к земле, и даст она тебе силы жизненные (ВП, 03.08.2001). Качества, свойственные живому существу, выражаются в смысловой структуре лексемы земля в процессе её функционирования в сочетании с глаголами, обозначающими действия, производимые человеком.
Приём олицетворения широко используется при функционировании анализируемого субстантива в текстах периода Второй мировой войны: Земля стонала от разрывов крупных бомб (СП, 26.11.1943). При этом в его смысловой структуре актуализируется потенциальная сема ‘способность издавать звуки, проявлять чувства’. Обращение к данному приему в подобного рода контекстах позволяет выразить боль, которую испытывают люди на войне, неприятие разрушительной силы, стремление к восстановлению гармонии в мире.
В основе классификации существительных, обозначающих объекты ландшафта, лежат различные критерии. Из них основными являются особенности рельефа (равнина; возвышенность, возвышение, высота; углубление, низменность, низина, глубина), состав верхней части земной поверхности и недр (почва, грунт, земля, недра, порода, ископаемое, камень, минерал), местоположение полезных ископаемых (бассейн, месторождение).
Гиперонимы субстантивов, именующих ровные участки суши или понижения и повышения земной поверхности, редко функционируют в текстах СМИ. Вероятно, такая особенность объясняется необходимостью употребления в газетных публикациях лексем, имеющих более конкретное значение: они должны указывать на местоположение природных объектов, содержать в семной структуре характеристику очертаний, размеров (например, слова овраг, степь, холм).
В качестве гиперонимов существительных, обозначающих природные вещества, которые входят в состав горных пород либо залегают в глубинах или на поверхности земли [БТСРС, с. 107], выступают лексемы минерал, порода, ископаемое, камень, месторождение, недра.
В процессе употребления данных существительных в указанном значении в их смысловой структуре появляются компоненты, позволяющие определить способы практического применения природных образований. Например, при функционировании лексемы камень в значениях «всякая горная порода в виде сплошной массы или отдельных кусков» и «отдельный кусок такой породы» [БТС, с. 412] актуализируются такие потенциальные семы, как ‘строительный материал’: С февраля началась заготовка камня, в мае расчистили траву, подвезли грунт и песок, в июне приступили к строительству шоссе (СП, 06.10.1939), Сюда, говорит, надо в следующий раз захватить лопату, топор, бутовый камень, брусья… (ВП, 26.06.2002); ‘материал для изготовления украшений, предметов искусства’: Художники всегда стремились запечатлеть в камне, глине, цвете неповторимые черты своих избранниц, создавая тем самым идеал женской красоты своего
времени (ВП, 31.03.1999).
Используется данное существительное и в переносных значениях, при этом могут образовываться контекстуальные значения, в которых актуализируются такие дифференциальные признаки главного ЛСВ, как ‘твердость’: Камни, а не калачи (ВП, 12.03.1999); ‘тяжесть’: Прошло мгновение — и фашистский самолёт камнем упал на землю (СП, 02.07.1941), <…> рыбак камнем пошёл на дно (ВП, 05.12.2003).
В производных узуальных значениях, которые образованы от ЛСВ, выступающих в качестве гиперонимов ЛСГ «горные породы, ископаемые, камни», в текстах СМИ функционирует лексема недра: Среда делегатов — старые большевики, вынесшие на своих плечах не один десяток лет революционной борьбы, и молодые кадры, окрепшие и закалившиеся в горииле сталинских пятилеток, поднявшиеся из недр народа, взращённые под солнцем Великой Социалистической Октябрьской революции (СП, 11.03.1939), <… > однако документы завязли где-то в глубинных недрах кремлёвской демократии (ВП, 10.10.2001). В приведённых примерах представлен ЛСВ «о внутреннем пространстве, внутренней части чего-л. / о народе, народных массах» [БТС, с. 621]. При образовании переносного значения произошла актуализация дифференциальных сем ‘удалённость’, ‘положение на большой глубине’, выделяемых в главном значении: «места под земной поверхностью, глубины земли» [БТС, с. 621].
Гиперонимом существительных, обозначающих верхний слой земной поверхности, является слово почва [БТСРС, с. 110]. В отличие от гиперонимов слов, отражающих особенности рельефа, данный субстантив активно функционирует в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда». Такое свойство можно объяснить тем, что в Нижнем Поволжье хорошо развито сельское хозяйство, которому на страницах региональных СМИ уделяется особое внимание. Во многих статьях освещаются вопросы обработки почвы, улучшения её плодородности, что приводит к актуализации ЛСВ «верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь»: В почву вносили минеральные и органические удобрения (СП, 20.08.1940), В целях сохранения плодородия почвы в этом году убавили посевы подсолнечника (ВП, 04.07.2003).
Реализуется в процессе функционирования лексемы почва и значение «о стране, народе с особенностями его психологического склада, культуры, условий жизни» [БТС, с. 947]: А что может быть дальше от брызг шампанского Кальмана и Легара, чем история «цветной» банды с нью-йоркской окраины? В этом таится причина неорганичности мюзиклов на русской почве (ВП, 20.05.2000). Употребление анализируемого слова в данном значении позволяет автору поднять проблему адаптации иностранной культуры в России.
В значении «то, на чём зиждется что-л.; основание, основа» [БТС, с. 947] существительное почва используется в основном для характеристики негативных ситуаций, явлений: В сентябре 1938 г. Франция предала независимую Чехословацкую республику, связанную с ней военным союзом, и тем самым подготовила почву для ещё более наглых разбойничьих захватов (СП, 03.04.1939), Психологи говорят, что в такого рода замкнутой подростковой среде может возникнуть почва для «дедовщины» (ВП, 01.07.2000).
В предложениях Бурса явилась благоприятной почвой, где одарённые ученики часто превращались в опасных преступников, воров-профессионалов, вроде Аксютки или ростовщиков, как Тавля (СП, 17.10.1938) и Однако благодатную почву для этих сомнений и обвинений в том, что в Российской армии «окопались» «махинаторы» и «братки» дало само же командование (ВП, 20.05.2003) исследуемый субстантив сочетается с прилагательными благоприятный, благодатный, в семной структуре которых содержится положительная коннотация. Несмотря на это, всё сочетание приобретает отрицательную оценку, так как характеризует негативные жизненные ситуации. Контекст ставит под сомнение положительный смысл прилагательных, вследствие чего в предложениях возникает ирония.
Случаи выражения в ЛСВ «то, на чём зиждется что-л.; основание, основа» позитивного восприятия человеком окружающей действительности единичны: И мне, молодому бригадиру, легче руководить, чувствуя под собой твёрдую почву коммунистических отношений с товарищами по работе (СП, 02.10.1940), Благодатная почва для творчества? (ВП, 30.06.1998). В данных предложениях актуализация положительной оценки происходит в результате употребления прилагательных твёрдый «не подверженный изменениям, непоколебимый, устойчивый, прочный» [ТСРЯ, с. 973] и благодатный «обильный и радостный, полный благ» [ТСРЯ, с. 47].
Анализ существительных, являющихся общими обозначениями объектов земного пространства, показывает, что в репрезентации русской языковой картины мира основную роль играют лексемы земля, почва, недра, реализующие в текстах СМИ не только значение «земное образование», но и производные от него ЛСВ.
2.1.1 Лексико-семантическая группа «равнина»
Единицы ЛСГ «равнина» обозначают различные природные образования, составляющие ровное пространство суши. В структуре значений этих слов представлены следующие интегральные семы: ‘местоположение’ (архипелаг, атолл, берег, взморье, заречье, континент, коса, лукоморье, материк, мыс, остров, отмель, перешеек, плавни, плоскогорье, пляж, побережье, полуостров, поморье, понизовье, приморье, проталина, стрелка), ‘размер’ (континент, коса, лужайка, материк, плоскогорье, пуща, роща, степь, стрелка) ‘форма’ (атолл, коса, мыс, перешеек, побережье), ‘физические свойства’ (болотина, болото, топь, торфяник, трясина), ‘наличие растительности’ (глушь, гуща, дебри, джунгли, кустарник, лес, лесостепь, лесотундра, луг, лужайка, мелколесье, оазис, опушка, пампасы, подлесье, поле, полесье, поляна, поросль, прерии, пуща, редколесье, роща, саванна, сельва, степь, субтропики, тайга, тропики, тундра, чаща, чащоба), ‘отсутствие растительности’ (полупустыня, пустыня), ‘роль в жизни человека’ (луг, пляж).
В текстах региональных печатных СМИ функционируют прежде всего такие существительные данной ЛСГ, которые обозначают природные объекты, характерные для Нижнего Поволжья. К ним относятся слова поле и степь.
Существительное поле употребляется в текстах региональных газетных изданий для обозначения широкого ровного земного пространства, для которого характерна низкорослая растительность: И в городе, и где-то далеко за ним, на обочинах автотрасс и на тихих полях, проклюнулись первые зелёные ростки (ВП, 17.04.1998).
Однако чаще всего рассматриваемый субстантив функционирует в значении «обрабатываемая под посев земля, возделанный участок» [БТС, с. 898-899], что обусловлено развитой системой сельского хозяйства в Нижневолжском регионе, необходимостью освещения в текстах СМИ проблем агропромышленного комплекса. Значение работы в поле, выращивания продуктов питания, получаемых с волгоградских полей, ярче всего отражается в текстах, в которых данное природное образование приобретает образную характеристику: Чёрный бархат полей сменяется ковром озимых всходов (СП, 11.04.1943); наделяется качествами, свойственными человеку: В сочетании с минеральной подкормкой да
надёжной защитой от вредителей поле отзовётся добрыми намолотами (ВП, 31.08.2000).
Для существительного поле характерно функционирование в текстах областных СМИ в значении «специально оборудованная площадка (для взлёта и посадки самолётов, спортивных игр и т. п.)» [БТС, с. 899]: Капитан часто с командного пункта выходил на зелёное поле аэродрома и всматривался в даль, прислушивался, не шумит ли мотор (СП, 27.01.1942), Дважды хозяева поля опасно выполняли штрафные удары (ВП, 19.06.1998). В этом случае актуализируются интегральная сема ‘ровное пространство’ и потенциальная сема ‘большое пространство’, выделяемые в семной структуре главного ЛСВ данного субстантива.
В значении «область, сфера (какой-н. деятельности), поприще» [Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (далее — СУ): т. Ш, с. 513], «область деятельности, проявления чего-л.» [БТС, с. 899] слово поле в советских и постсоветских печатных СМИ употребляется по-разному. В изданиях 1938-1943 гг. оно функционирует в текстах о жизни социума: <…> на любом участке нашей общественной жизни парторганизациям предоставлено большое поле деятельности <…> (СП, 09.04.1940); в материалах, посвящённых экономической сфере: Предприятия социалистической промышленности, оснащённые самой передовой в мире, совершенной техникой, являются обширным полем для наиболее высокой организации труда (СП, 22.10.1939) и политической жизни страны: Положение, создавшееся в Польше, распад польского государства, анархия и беспорядок, воцарившиеся в Польше, сделали Польшу удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР (СП, 20.09.1939). В текстах 1998-2003 гг. субстантив поле в указанном значении характеризует явления постиндустриальной эпохи: К сожалению, в округе нет единого информационного поля, и мы вынашиваем мысль о том, чтобы одна из районных газет стала окружной (ВП, 28.03.2002).
В текстах, посвящённых военным событиям, рассматриваемое существительное употребляется в значении «основной цвет, фон под узором» [БТС, с. 899]: Звёздочки на погонах генералов вышиты по золотому полю — серебром, по серебряному полю — золотом <…> (СП, 09.01.1943).
Военная сфера также подчиняет себе ЛСВ «пространство, доступное для каких-нибудь действий, находящееся в пределах действий чего-н.» (спец.) [СУ, т. III, с. 513]: Противник не выдержал напора советских воинов и отступил, оставив на поле боя до 100 фашистских трупов, 3 миномета, 40 пулемётов, одну противотанковую пушку и другое военное имущество (СП, 28.03.1943); «открытое пространство, занятое войсками, а также бой или поединок на таком пространстве» (стар.) [ТСРЯ, с. 685]: Ратное поле, со времён Сталинградской битвы густо усеянное солдатскими костями и осколками снарядов, в первый раз возродили в 1980 году (ВП, 08.05.2002).
Подобное значение может приобретать в текстах о войне и слово степь: От метких попаданий навеки умолкли 3 вражеских пулемёта, развалились 4 блиндажа, 30 фашистов полегли костьми в степи (СП, 21.01.1943), Солдаты Гитлера удобрили степи России. Дошли немцы до Волги, но у Волги и полегли (СП, 30.04.1943). Употребление этого существительного в конструкциях с устойчивым словосочетанием в первом предложении и с обозначающим один из видов работы в поле глаголом удобрить во втором позволяет не только указать место военных действий, но и дать оценку военным действиям, выразить отношение к врагу.
В текстах СМИ, не затрагивающих военную тематику, выявляются следующие релевантные для носителей языка характеристики природного объекта, отраженные в дифференциальных и потенциальных компонентах значения субстантива степь: ‘обширное безлесное, ровное пространство’: Степь лежит просторная, широкая, полная безмятежного покоя и величавой весенней красоты (СП, 03.04.1938), Сразу жe за второй улицей нашего села начиналась бескрайняя степь (ВП, 23.07.2003); ‘место, где растут полезные травы’: А сколько лечебных трав в нашей степи! (ВП, 25.06.1999); ‘ведение сельского хозяйства’: Те <трактористы> быстро одеваются и уходят в степь (СП, 03.04.1938), Его директор В. М. Зинченко возвращается из степи и удрученно вздыхает: на отдельных массивах уже трещины появились, а регулярный полив растений наладить никак не удаётся (ВП, 29.05.1998); ‘участок, подвергающийся неблагоприятному воздействию природных условий’: А за чертой посёлка — степь, выжженная горячим солнцем, унылая, глухая (СП, 09.05.1938), Сурова здесь степь. Относительно влажные годы — большая редкость (ВП, 23.09.2003). В предложениях, созвучных с двумя последними примерами, обычно выражаются чувства тоски, подавленности, опустошённости. В первом примере, наоборот, передано восхищение, восприятие степных просторов как чего-то родного, близкого.
Лексема лес и другие слова, обозначающие пространства, занятые растительностью, выделяются в составе ЛСГ «равнина» на основании их противопоставлённости местностям, для которых не характерны высокие растения. Лес и кустарники могут расти и в низине, и на возвышенностях, но при этом признак, обозначающий занимаемое ими пространство, перестаёт быть релевантным, данное природное образование переходит в группу объектов, имеющих отношение к растительному миру: Большую экономию в нормах можно получить, организуя зимний выпас скота в поймах Хопра, Дона и Волги, поросших лесом и кустарником (СП, 06.01.1942). Несмотря на то, что территории, на которых произрастают деревья и кустарники, встречаются на возвышенностях и в низинах, только на равнинах природные объекты, обозначаемые данными субстантивами, позволяют дифференцировать различные участки ровного ландшафта, отграничить их друг от друга, противопоставить полю, степи, лугу (ср., например, дефиницию «безлесная равнина» слова поле).
Основанием для включения в ЛОТ «равнина» существительных лес, роща и других подобных им лексем может служить наличие в русском языке слов лесостепь, лесотундра, которые обозначают пространства, занимающие промежуточное положение между безлесной равниной и ровными участками суши, занятыми лесом и кустарником.
Из субстантивов, именующих пространство, занятое высокорослой растительностью, в региональных СМИ чаще всего функционирует лексема лес. В газетных текстах её смысловая структура наполняется потенциальными компонентами ‘место укрытия от врагов’: <…> разведчики прорвали окружение и скрылись в лесу (СП, 01.07.1941); ‘место укрытия от жары’: Жара, хочется в лес (ВП, 24.07.2002); ‘место обитания животных’: В июне леса, поля и водоёмы превращаются в «детский сад» — молодь появляется почти у всех диких зверей и птиц (ВП, 04.06.2002).
Особую группу составляют слова, обозначающие природные реалии, не характерные для Нижнего Поволжья. Данные существительные либо практически не встречаются в текстах региональных СМИ (тропики), либо употребляются в метафорических значениях (джунгли, оазис).
При функционировании данных лексических единиц в прямом значении в их смысловой структуре появляются компоненты, указывающие на то, что природные образования, именуемые этими словами, не свойственны Нижневолжскому региону. Актуализация подобных признаков происходит за счёт характеристики удалённости таких объектов: Не одна партия ссыльных прошла мимо поселения, где жил Антон с семьёй, не одному убийству в глухой тайге из-за крупицы золота он был свидетелем (СП, 03.04.1941); упоминания обитающих на этих равнинных участках экзотических животных: В экспозиции представлено более тридцати видов животных, в числе которых обезьяны, черепахи, змеи, крокодил, вараны, морские свинки и другие обитатели тропиков (ВП, 20.12.2001).
При функционировании в переносном значении существительного джунгли актуализируется дифференциальная сема ‘непроходимый’ [БТС, с. 256]: Дискотека «Пентагон» в последнее время становится всё более популярным местом отдыха у молодых любителей побродить по джунглям танцевальной музыки (ВП, 31.01.1998). Употребление данного слова позволяет образно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в современной музыке: наличие множества направлений, в которых трудно разобраться.
Лексема оазис употребляется в СМИ в значении «о том, что доставляет удовольствие, положительно отличаясь от окружающего» [БТС, с. 661]. При помощи данного ЛСВ даётся характеристика сфер культуры и образования: Оазисом культуры среди дымящихся заводских труб полушутя-полусерьезно назвали любимую «музыкалку» старшеклассники на одном из весенних капустников, каковых в школе проводится немало (ВП, 25.12.2003), Тем отраднее сознавать, что есть в нашем городе-герое оазисы, где ведётся целенаправленная внеклассная и внешкольная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения (ВП, 17.04.1999).
При реализации существительным оазис в текстах о политике и экономике значения «о том, что доставляет удовольствие, положительно отличаясь от окружающего» в его смысловой структуре актуализируются потенциальные семы ‘редко встречающиеся явления’: Разорённая четырьмя годами империалистической войны, повторно разорённая тремя годами гражданской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших хозяйств, — вот какую страну получили мы в наследство от прошлого (СП, 09.12.1939); ‘условия’: <…> предприятие не находилось в оазисе экономического климата (ВП, 01.04.2000).
Данный субстантив может употребляться в функции номинации объектов, которые редко встречаются на территории Волгограда, обладают способностью к защите, сохранению чего-либо, создают комфорт: Глава райадминистрации хотел бы не просто вернуть ей статус пешеходной зоны, но превратить в улицу роз — эдакий зелёный оазис на знойном волжском берегу (ВП, 07.04.1998), Тяжело смотреть, во что превратились наши городские леса, больше всего напоминающие помойки и свалки. А ведь это особая, уникальная категория леса! Произрастающий в черте города, он является настоящим оазисом, надёжно охраняющим город от суховеев и экологических катаклизмов (ВП, 24.07.2002).
Основанием для метафорического переноса послужило наличие в структуре главного значения лексемы оазис — «место в пустыне или полупустыне, где есть вода и растительность» [БТС, с. 661] — интегральных сем, обозначающих жизненно важные природные образования: ‘вода’ и ‘растительность’.
Слово пустыня, наоборот, обозначает обширную засушливую область с небольшим количеством осадков, резкими колебаниями воздуха и почвы и скудной растительностью [БТС, с. 1048]. В отличие от существительного оазис, оно активно употребляется в текстах СМИ как в прямом значении, так и в переносном и содержит отрицательную коннотацию. В прямом значении данный субстантив используется в функции номинации особенностей природы Нижневолжского региона: В другом зале привлекают внимание экспонаты совхоза №3, вырастившего в пустыне огромный сад (СП, 18.07.1939), Если попытаться преодолеть это пространство пешком, то взору путешественника предстанут лесостепи в северной части Волгоградской области и песчаные пустыни на юго-востоке Астраханской области и Калмыкии (ВП, 17.08.1999). Интегральный признак ‘недостаток / отсутствие влаги и растительности’ лёг в основу метафорического переноса, в результате которого образовался ЛСВ «безлюдное, необитаемее место» [БТС, с. 1048], семантический потенциал которого реализуется в публицистических текстах для создания экспрессии, указания на опасность: Немецкие изверги пытались превратшпь в пустыню цветущие районы Дона и приволжские земли (СП, 29.08.1943), Победитель в ядерной войне мог получить лишь «атомную пустыню» (ВП, 17.01.1998).
Особенностью существительных, обозначающих прилегающие к воде участки суши, является актуализация в их смысловой структуре при функционировании в текстах СМИ потенциальных сем ‘место отдыха’: Говорят, что он по совету врачей собирается поехать к берегам Чёрного моря (СП, 26.06.1939), Третий год подряд функционирует пляж Центрального района возле Делового центра (ВП, 29.06.2002); ‘место расположения промышленных объектов, технических станций и т. п.’: На таком берегу расположен рыбозавод (СП, 09.04.1939).
Прилегающие к воде участки суши могут быть местом спасения. Такое свойство закреплено не только в главном значении существительных, которые номинируют их: <…> все люди пловучего лагеря были спасены и доставлены на материк (СП, 25.01.1939), но и в переносных: Подняли голову все капитулянтские элементы, пригнанные волной революционного движения к антифашистскому берегу (СП, 14.03.1939), Швейцария в конце XVIII века была крохотным образцом буржуазной демократии, республиканским островом среди монархий в Европе (СП, 03.07.1938), Дальше начались такие проблемы, что до сих пор не могу вспоминать о них без содрогания. Нелегко прибивался к твердому берегу и средний сын, младший тогда ещё учился в школе (ВП, 31.12.2003).
Расположение природных объектов, обозначаемых существительными рассматриваемой нами ЛСГ, рядом с водным пространством обусловливает их стратегическое значение: Тяжёлой и кровопролитной была битва на берегу Волги (СП, 29.12.1943), 8 английская армия быстро продвигается по побережью в направлении порта Тунис (СП, 20.04.1943), — По официальным данным, на берегах Волги погибло около полутора миллионов человек, — сказал, выступая на траурном митинге, глава областной администрации Н. Максюта (ВП, 23.06.1999).
Слово болото в прямом значении входит в состав ЛСГ «равнина» и «водное пространство».
По данным БТСРС, болото — «часть земной поверхности со стоячей водой и зыбкой поверхностью, заросшая влаголюбивыми растениями» [БТСРС, с. 103]. В РСС также указывается на то, что болото является частью земного пространства [РСС, т. I, с. 599]. Правомерность рассмотрения данного субстантива в рамках ЛСГ «равнина» находит подтверждение в его смысловой структуре благодаря актуализации потенциальных сем ‘возможность проведения строительных работ’: На топком болоте вырос рабочий городок (СП, 30.05.1941), Так сложилось, что под электросетевые объекты чаще всего выделяются бросовые земли, в том числе болота (ВП, 03.03.1998) и ‘путь, дорога’: В этих районах тайга изобилует непроходимыми болотами (СП, 09.10.1938), <…> и по воде передвигается, и
по любому болоту — на гусеничном ходу на плавучем транспортном средстве <…> (ВП, 04.07.1998).
Однако существование контекстов типа Сдерживалась раскорчёвка кустарников, осушение болот, распашка целины, то есть всё то, что ведёт к расширению посевов, к наиболее правильному и продуктивному использованию общественных колхозных земель (СП, 08.04.1940) ставит под сомнение включение субстантива болото в главном ЛСВ только в один класс слов. Принадлежность данного существительного к ЛСГ «водные пространства» тематической подгруппы «водные образования» зафиксирована в БТС: болото — «водоём со стоячей водой, поросший влаголюбивыми растениями» [БТС, с. 89] и в смысловой структуре, в которой отражены признаки водного пространства при помощи дифференциальных сем ‘возникновение из водоёма’: <…> половина прудов превратилась в лягушатники и малярийные болота (СП, 10.02.1938); ‘противопоставленность суше’: Знаете, — отвечает Сергей Анатольевич, — сегодня работать директором всё равно что скакать по болоту с кочки на кочку, примеряясь каждый раз: выдержит ли следующая? (ВП, 08.04.1998).
В отличие от своего гиперонима, слова ЛСГ «равнина» принимают активное участие в репрезентации русской языковой картины мира, при этом в их прямых и переносных значениях особая роль отводится семантическим компонентам, определяющим роль в жизнедеятельности человека именуемых данными субстантивами объектов окружающей действительности.
2.1.2 Лексико-семантическая группа «возвышенности и их части»
Существительные ЛСГ «возвышенности и их части» обозначают различные участки суши, выделяющиеся своей высотой по сравнению с окружающей местностью, а также части таких участков. В семной структуре слов со значением «возвышенность» выделяются такие интегральные признаки, как ‘местоположение’ (барханы, водораздел, дюны, кочка, кочкарник, междуречье, плато, порог, предгорье, шхеры), ‘размер’ (бугор, вал, взгорье, гора, гряда, кочка, кряж, курган, массив, нагорье, отрог, плоскогорье, пригорок, хребет, цепь), ‘форма’ (кратер, сопка, уступ, холм), ‘особенности строения’ (вулкан, кратер, скала, утёс), ‘происхождение’ (заструга, намыв, нанос), ‘особенности функционирования’ (вулкан, кратер), ‘часть’ (вершина, косогор, крутизна, круча, обрыв, отвес, откос, отлогость, пик, подножие, подошва, скат, склон, терраса).
Главная особенность функционирования субстантивов данной ЛСГ в газетах «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» состоит в том, что на употребление ЛСВ, обозначающих возвышенности, накладывают ограничения экстралингвистические параметры. К ним прежде всего относится малое количество высоких участков суши на территории Нижнего Поволжья. Для того, чтобы полюбоваться природными возвышенностями, необходимо оказаться в других местах: Красивы стройные сосны на гранитных скалах, но понятнее и роднее привольные степные просторы (СП, 20.10.1940), Чужие края, горы, покрытые снегом, завораживали —после светлоярских степей окрестности казались огромной декорацией (ВП, 15.06.2001). Интегральная сема ‘размер’, выделяемая в прямых узуальных значениях субстантивов гора, скала, реализуется в дифференциальном признаке ‘большая высота’, при этом она соотносится с потенциальной семой ‘чужой’, что позволяет говорить о восприятии больших возвышенностей жителями Нижневолжского региона как чего-то не характерного для их родных мест, непривычного.
Особый интерес представляет лексема курган. В текстах волгоградских СМИ она функционирует в составе топонима Мамаев курган, коннотативный компонент значения которого менялся в течение XX в. Так, до войны природный объект, обозначаемый данным словом, воспринимался сталинградцами как безжизненное пространство, на котором трудно вести сельскохозяйственную деятельность: Зелень покрыла даже Мамаев курган — мёртвое место, где, по утверждению многочисленных специалистов, ничто не могло расти, а вот большевики посадили и выращивают на бросовых, выжженных солнцем солончаках и суглинках груши, абрикосы, яблони, виноград. Этот колоссальный труд проделывается с единственной целью освободить человека от пыли, создать ему новые, прекрасные места для отдыха (СП, 11.05.1938). Со времён Сталинградской битвы данное место становится священным, особенно ценным не только для жителей города, но и для всех россиян: Кому больше всего на свете дорог этот курган, как не его защитникам (ВП, 14.10.2000), <…> ему предстоит <…> быть достойным хранителем самого священного кургана России (ВП, 22.08.2000).
Упоминаются в текстах СМИ и другие природные возвышенности и их части, ставшие территорией, на которой велись военные действия: Они <солдаты> легли за небольшой бугор и, выждав, бросили в пулеметчика гранаты (СП, 25.04.1943), Часть вражеских солдат прорвалась на юго-западные скаты высоты (СП, 09.07.1943), День прошёл в сильном напряжении: разорённые немцы яростно обстреливали холм <…> И тут снова ожил холм, заговорил пулемёт (СП, 09.05.1943), <…> боец ещё пристальнее всматривается в даль, на ту высоту, с которой, казалось, стреляет каждая кочка и, отыскав цель, нажимает курок (СП, 19.09.1943).
В текстах военной тематики субстантивы рассматриваемой ЛСГ также употребляются в переносном значении: Немцы рассчитывали взять курс на затяжную войну, стали строить оборонительные рубежи и «валы», объявив во всеуслышание о неприступности их новых позиций (СП, 07.11.1943).
Существительное вал может обозначать искусственно создаваемые объекты, которые напоминают по виду и функциям природные образования и используются в сельском хозяйстве: <…> следует проделать борозды и валы для задержания талых вод и установить щиты для задержания снега (СП, 27.11.1943).
Лексема бугор реализует в газетных публикациях переносное значение «заграница» [БТС, с. 100]: Опасный сувенир из-за бугра (ВП, 15.04.1999). Вероятно, основанием для возникновения такого ЛСВ послужило восприятие жизни по другую сторону возвышенности как чего-то далёкого, чужого, неизведанного, а иногда и опасного (в тексте, заголовком которого является указанное предложение, говорится об опасности малярии, которая может прийти из стран ближнего зарубежья).
Наибольшая частотность переносного употребления в текстах областных печатных СМИ отмечается у лексемы гора. Данное существительное используется для обозначения большого скопления предметов [БТС, с. 218], которому носители языка нередко дают положительную оценку: Урожай подходил невиданный, горы зерна зрели в низко склонившихся колосьях <… > (СП, 07.11.1939) или отрицательную: <…> наступившая весна несёт с собой не только лирические настроения, но и, увы, обнажает в буквальном смысле горы промышленных и бытовых отходов (ВП, 10.04.2003). Связь прямого значения с переносным закреплена в дифференциальном признаке ‘большой по размеру’.
Переносные контекстуальные значения развиваются у субстантивов, обозначающих не характерные для Нижневолжского региона природные объекты, воспринимаемые как экзотичные, например: Они сплошь хотят походить на Манон — с «лебединой статью». На этот вулкан эмоций с энергией горного водопада (ВП, 19.05.2001). В значении «человек, бурно проявляющий эмоции» актуализировались дифференциальные признаки ‘большая высота’, ‘извержение лавы, горячих газов, паров, пепла’, свойственные основному значению существительного вулкан [ТСРЯ, с. 123].
Среди существительных, обозначающих части возвышенностей, в текстах СМИ употребляются, главным образом, слова, в структуре значений которых выделяется дифференциальная сема ‘верхняя часть’.
Существительное вершина функционирует в значении «высшая степень, ступень чего-л.», образованном от ЛСВ «верхняя, самая высокая часть чего-л. (обычно дерева или холма)» (БТС, с. 121], в текстах газет середины XX в. для характеристики достижений в области искусства: Как в двадцаатых годах XIX столетия поэзия Пуишкина явилась солнечной вершиной русской поэтической культуры, так в наш XX век с высот поэзии Маяковского видны далёкие перспективы советской поэзии (СП, 14.04.1940); для описания социально-политической обстановки в стране: Великое имя — Сталин — стало символом побед, яркой путеводной звездой, озаряющей победный путь трудящихся нашей могучей родины к вершинам
человеческого счастья, к коммунизму (СП, 21.12.1939). По аналогии употребляется в подобном значении слово хребет: В русской поэтической культуре Пушкин и Маяковский — два эпохальных горных хребта, вобравших в себя всё лучшее, всё прогрессивное, всё революционное своего времени (СП, 14.04.1940). В публикациях газеты «Волгоградская правда» рубежа XX—XXI вв. лексема вершина также встречается в указанном переносном значении, но при этом в её семантике наблюдается нейтрализация идеологического компонента, благодаря чему у субстантива вершина расширяются парадигматические связи, позволяя ему входить в состав других классов слов, например ЛСГ «спорт»: Так началось восхождение Рамазана на серебряную вершину в абсолютной весовой категории чемпионата мира по боям без правил, прошедшего недавно в Москве (ВП, 24.05.2000); ЛСГ «достижения человека»: Те коллекции, которые проходят через её руки, — это вершина всего, что делают в колледже (ВП, 14.07.199).
В структуре ЛСВ «резкий кратковременный наивысший подъём чего-л.» [БТС, с. 831] существительного пик также реализуется дифференциальная сема ‘высокая часть’, однако круг обозначаемых им явлений уже, чем у слова вершина: Август — пик сезона (ВП, 09.08.2002), <…> принудительно лечить можно лишь тех, кто находится на вершине пика — в состоянии алкогольного психоза или, что называется, отдаёт концы (ВП, 09.10.1998). Способность обозначать только кратковременные явления заложена в прямом значении «остроконечная горная вершина или высшая точка горной вершины вообще» [БТС, с. 831]: в его семной структуре содержится указание на то, что суживающаяся к концу часть возвышенности не позволяет находиться на ней долго.
Такая же особенность характерна для природного образования, именуемого лексемой откос: Проходивший немецкий воинский эшелон наскочил на мины и свалился под откос (СП, 07.06.1942), Телега стремительно покатилась под откос (ВП, 20.07.1999) (ср. с переносным значением: Казалось, доселе размеренная, предсказуемая жизнь резко пошла под откос (ВП, 03.08.2001)).
В текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» прослеживается чёткое отграничение существительных, обозначающих невысокие земные объекты и большие по величине возвышенности, противопоставление последних субстантивам со значением «равнина». Анализ особенностей функционирования образованных от существительных ЛСГ «возвышенности и их части» переносных значений позволяет в качестве релевантных выделить дифференциальные семы ‘большая высота’, ‘высокая часть’, ‘препятствие / опасность’, ‘неизведанность’.
2.1.3 Лексико-семантическая группа «углубления и их части»
ЛСГ «углубления и их части» представлена существительными, обозначающими места, характеризующиеся понижением уровня земной поверхности, а также части таких участков. Следующие интегральные признаки, представленные в семной структуре данных слов, позволяют различать обозначаемые ими природные объекты: ‘местоположение’ (буерак, грот, долина, катакомбы, котловина, пещера, подземелье, пойма, размоина, рытвина, седло, седловина, теснина), ‘размер’ (балка, бездна, буерак, водомоина, грот, долина, канава, каньон, котловина, лог, ложбина, лощина, овраг, пропасть, расселина, расщелина, ров, седло, седловина, теснина, трещина, ущелье, яма), ‘форма’ (горловина, седло, седловина), ‘особенности строения’ (балка, грот, каньон, катакомбы, котловина, лог, ложбина, лощина, овраг, пещера, подземелье, пропасть, ущелье), ‘наличие растительности’ (балка), ‘происхождение’ (балка, бездна, водомоина, впадина, вымоина, каньон, лог, ложбина, лощина, овраг, провал, промоина, пропасть, просос, проточина, размоина, размыв, расселина, расщелина, рытвина, трещина, ущелье), ‘часть’ (горловина, дно), ‘роль в жизни человека’ (канава, русло), ‘особенности восприятия’ (бездна).
Обращение к изучению функционирования единиц ЛСГ «углубления и их части» позволяет определить, что для носителей языка одним из главных свойств природных образований, обозначаемых существительными ЛСГ «углубления и их части», является наличие флоры и фауны: В поймах Волги, Дона, Ахтубы много ежевики и щавеля (СП, 26.06.1942), В кустах по речным долинам и неглубоким лощинам держатся табуны серых куропаток (ВП, 30.11.2002). Подобного рода предложения встречаются, главным образом, в публикациях, в которых рассказывается о природных богатствах и их применении.
Некоторые особенности природных углублений могут оцениваться носителями языка по-разному в зависимости от ситуации. Например, на потенциальную сему ‘способность наполняться водой’ может накладываться как положительная коннотация: Пойма перерезана бесчисленными воложками, ериками, протоками, ильменями, что дает прекрасное орошение обвалованным участкам (СП, 16.10.1938), так и отрицательная: К тому времени основную массу льда унесло в Дон, схлынула и вода из поймы, оставив, впрочем, залитыми большие бочажины. О том, чтобы проехать здесь, не говоря уже об установке новых опор ЛЭП, и речи вести не приходилось: грунт на 2—3 метра в глубину представлял собой сплошную грязь (BП, 04.07.1998).
Негативное отношение выражается в том случае, если природные углубления представляют преграду на пути человека, мешают его движению там, где расположены данные объекты, при этом в структуру предложений вводится лексика с семантикой передвижения: После спада весенней воды русло реки становится непроходимым для судов (СП, 28.07.1939), И позади дворов размыло овраг — к нашим дворам практически нет подъезда (ВП, 06.12.2003). В такого рода контекстах описываются действия, совершаемые для того, чтобы избавиться от препятствий: По проекту предполагается значительно поднять уровень воды в реках, выправить их русла и т. п. (СП, 11.12.1939), Все, что мы делаем, на виду: засыпаем овраги, строим футбольные поля (ВП, 02.04.1999).
Положение некоторых природных образований ниже уровня земной поверхности обусловило специфику их практического применения, которая отражается в смысловой структуре соответствующих существительных в виде таких потенциальных сем, как ‘место укрытия’: Танкисты Н-ской части, продвигаясь балками, обошли противника (СП, 19.10.1943), Кстати, в годы войн и катаклизмов катакомбы для Древней Руси становились такой же спасительной колыбелью: здесь прятали младенцев, пекли хлеб и поили священной водой из целебных колодцев Феодосия и Антония (ВП, 17.08.2001) и ‘место совершения преступлений’: <…> Мучкаев, Эрендженов, Еременко украли тёлку, принадлежащую Заготскот, которую ночью зарезали в овраге (СП, 19.01.1941), <…> в пойме реки Царицы неизвестные напали на двух молодых цыган и жестоко избили их (ВП, 07.08.2001). Углубления в земле обладают большей степенью защищенности, так как, покрытые земной твердью, становятся менее заметными, слабоуязвимыми. При появлении семы ‘место совершения преступлений’ в смысловой структуре слов ЛСГ «углубления и их части» возникает отрицательная коннотация, так как места, называемые данными существительными, ассоциируются с опасностью, смертью.
Ландшафты Нижнего Поволжья представляют собой в основном обширные степные или полупустынные пространства. Если в газетных текстах упоминаются не характерные для данной территории природные образования, то они могут получать отрицательную оценку, восприниматься носителями языка как что-то чужое, непривычное, неизведанное, вызывающее психологический дискомфорт: Кто бросал наших привыкших к степным просторам ребят в ущелья, сжимавшие в тисках тела и души? (ВП, 14.02.1998). В данном предложении из статьи, посвященной памяти солдат, погибших в Афганистане, возникновение негативных ассоциаций мотивировано тем, что ущелья стали местом военных событий, в которых пришлось принимать участие жителям Волгограда и области.
Наряду с природными объектами, существительные ЛСГ «углубления и их части» могут именовать искусственные образования. В структуре значений слов данная особенность выражается при помощи определённых компонентов: ‘созданный человеком’ — пещера [БТСРС, с. 107], ‘выбитый колесами’ — рытвина [БТСРС, с. 107], ‘вырытый’ — яма [БТСРС, с. 107], ‘сооружение’ — грот [БТС, с. 229]. При этом семы, обозначающие то, что создано человеком, включаются в структуру значения при помощи союзов или, а также: грот — «небольшое углубление (обычно в обрывистых морских берегах), имеющее широкий вход, а также подобное углубление, созданное человеком как парковое сооружение» [БТСРС, с. 106], пещера — «углубление, полое пространство, образовавшееся под землёй или в горном массиве естественным путём или созданное человеком, имеющее выход наружу» [БТСРС, с. 107]. В текстах СМИ указание на неестественный характер подобных образований содержится в контекстуальных уточнителях, например в прилагательном искусственный, лексемах, обозначающих действия, производимые человеком: Подальше от дороги устроены противотанковые ямы и наблюдательные посты (СП, 26.06.1939), Здесь <в Камышинском районе> ребята планируют изучить храмовые сооружения, искусственные пещеры и провести консультации с местными краеведами (ВП 05.01.2003), Особо радует, что от помощников нет отбоя, люди готовы сами копать ямы <для деревьев>, не дожидаясь спецтехники, лишь бы внести свой вклад в общее дело (ВП, 19.04.2001). В отличие от природных образований, для возникновения объектов, о которых говорится в приведённых выше предложениях, требуется вмешательство человека, изменение им ландшафта.
Для существительных ЛСГ «углубления и их части» характерно переносное употребление в текстах региональных СМИ. Среди них наибольшим семантическим потенциалом для репрезентации языковой картины мира обладают слова русло и яма.
Лексема русло функционирует в значении «направление, путь, по которому идёт движение, развитие чего-л.», образованном от ЛСВ «углубление в почве, по которому течёт водный поток (река, ручей)» [БТС, с. 1134]. Семантика направления характерна не только для переносного значения, но и для прямого, так как она может актуализироваться в контекстах, в которых говорится о русле как образовании, наделяемом способностью иметь определённое направление: А река охотно по новому руслу помчит свои воды в пустыню, неся ей жизнь (СП, 24.08.1939). В данном предложении семантика направления подчеркивается при помощи глагола мчаться и предлога по, выражается благодаря указанию на смежное положение русла по отношению к движущейся массе воды (реке).
Анализ материалов региональной прессы показывает, что в текстах 1938-1943 гг. существительное русло в значении «направление, путь, по которому идёт движение, развитие чего-л.» используется для характеристики политической и экономической областей: <…> развитие манчжурской экономики по военному руслу (СП, 16.08.1939). В постсоветских СМИ круг охватываемых данным ЛСВ явлений расширяется за счет включения в него таких сфер, как научные исследования: Интерес к БСЭ сегодня упал, русло его сместилось к изучению дореволюционной России (ВП, 26.02.1998), право: <…> расследование прокуратуры идёт верным руслом (ВП, 03.06.2003), медицина: <…> кровообращение в поражённых сегментах сосудистого русла (ВП, 22.10.2003), отдых: <…> более доступный способ направить в цивильное русло каникулы любимого чада <…> (ВП, 28.04.2000), коммуникация: <…> он <…> разговор вёл только в том русле, которое было интересно именно ему (ВП, 06.01.2000). Как видно из примеров, связь переносного значения с прямым поддерживается не только благодаря актуализации семы ‘направление’, но и таких семантических признаков, как ‘естественное изменение направления’, ‘искусственное изменение направления’, ‘деление на определённые части’. При этом экспликация семантики направления и его изменения осуществляется при помощи глаголов сместиться, направить, вести и предлогов по, в.
В процессе употребления в газетных публикациях существительного яма на основе ЛСВ «тюрьма, арестантское помещение (первоначально устраивавшееся в земле, в срубе, в подвале)» (посадить в яму, долговая яма) [БТС, с. 1533] развивается вследствие его переосмысления и расширения сферы функционирования метафорическое значение «критическая ситуация, затруднительное положение»: Ведь и в нынешних условиях те, кто может и хочет, потихоньку выкарабкиваются из кризисной ямы (ВП, 31.01.2001), Материнская дорога современной российской славянки донельзя изрыта социальными ямами (ВП, 09.12.2003). Активизация в постсоветских СМИ данного значения поддерживается тем, что оно реализуется в текстах различной тематики: об экономике, спорте, жизни общества. При этом очевидна связь с главным ЛСВ существительного яма: «вырытое или образовавшееся в земле углубление» [БТС, с. 1533]. Она подчёркивается при помощи контекстуальных уточнителей выкарабкиваются, изрыта.
Итак, в смысловой структуре существительных, обозначающих углубления в земле, отражена в основном отрицательная оценка данных природных объектов. Среди ЛСВ, производных от слов ЛСГ «углубления и их части», особая роль отводится метафорическому значению существительного русло, являющегося единственным субстантивом рассмотренной ЛСГ, который способен реализовывать семантику направления.
2.1.4 Лексико-семантическая группа «горные порды, ископаемые, камни»
В состав ЛСГ «горные породы, ископаемые, камни» входят существительные, которые именуют природные вещества, образовавшиеся в глубинах или на поверхности земли. В качестве интегральных признаков в семной структуре значений данных субстантивов выступают: ‘местоположение’ (все субстантивы), ‘форма’ (валун, сталактит, сталагмит), ‘размер’ (валун, галька, песок, пылинка, пыль), ‘особенности строения’ (алебастр, асбест, базальт, боксит, глина, гнейс, гранит, известняк, кварц, кимберлит, колчедан, кремнезём, магнетит, мергель, наждак, напластование, песок, песчаник, пирит, пласт, ракушечник, ракушник, россыпь, руда, силикаты, сланец, сталактит, сталагмит, фосфорит, шифер), ‘физические свойства’ (асбест, гагат, газ, змеевик, кремнезём, мел, нефть, пемза, пенка, песок, пирит, сланец, слюда, соль, тальк, торф, уголь, шпат), ‘цвет’ (асбест, аспид, базальт, гипс, глина, змеевик, каолин, кварц, киноварь, магнетит, мел, нефрит, нефть, пемза, пирит, соль, тальк, торф, шифер, все субстантивы, обозначающие драгоценные и полудрагоценные камни), ‘наличие узоров’ (мрамор), ‘происхождение’ (апатит, базальт, боксит, валун, глина, жила, кимберлит, мергель, окаменелость, отложение, пемза, песок, песчаник, порфир, сталактит, сталагмит, торф, туф, уголь, фосфорит), ‘часть горной породы’ (галечник, глыба, жемчуг, жемчужина, кальцит, монолит, перл, песчинка, самородок), ‘роль в жизни человека’ (алебастр, антрацит, асбест, гагат, газ, графит, известняк, каолин, мрамор, наждак, нефрит, нефть, пемза, слюда, соль, тальк, торф, все субстантивы, обозначающие драгоценные, полудрагоценные, недрагоценные камни).
В процессе функционирования существительных данной ЛСГ в текстах СМИ актуализируется интегральная сема ‘особенности применения’, которая нередко сопрягается с потенциальной семой ‘природные богатства’: На Уральских горах, покрытых лесными массивами, испещрённых быстрыми горными реками, во многих местах в большом количестве залегает железная руда, медь, золото, платина, никель, бокситы, азбест, колчедан, марганец, калий, хром, цинк, свинец, каменный уголь, нефть, мрамор… (СП, 11.05.1938), Наша область богата нефтью и газом, имеет хорошо развитый животноводческий комплекс, зерновые ресурсы (ВП, 27.06.1998).
В текстах региональных СМИ также рассказывается о природных образованиях, которые получают негативную оценку жителей региона: В селе Саломатино, где десятки лет были непролазные пески, в этом году построена хорошая булыжная мостовая (СП, 26.11.1939), Иной раз на речном дне встречаются громадные, невесть откуда взявшиеся валуны, которые в одиночку нипочем не вытащить (ВП, 29.06.2002), Во всяком случае, решительные шаги по спасению природы, скажем, от того же нашествия песков на озеро надо предпринимать оперативно (ВП, 25.08.1999). Отрицательная коннотация актуализируется в смысловой структуре значений таких слов из-за того, что горные породы, называемые ими, мешают осуществлению различных видов деятельности человека.
Негативное восприятие природы региона отражается в смысловой структуре субстантива пыль: С искони веков наш город был известен пылью. Её несли сюда сухие горячие ветры. Кто-то назвал постоянную пыль «сталинградским дождём», и это стало крылатой фразой, проникшей далее в литературу. А теперь свежий ветер несёт в город дальние запахи трав, клёна, тополей, яблонь (СП, 11.05.1938), Город наш некогда возник в засушливой безлесной полупустыне. Горячие степные суховеи жарким летом до сих пор несут пыль и песок па улицы и площади (ВП, 22.01.1998). Следует отметить, что если в газетах рубежа XX—XXI вв. наличие пыли воспринимается как данность, то в советских СМИ это природное образование рассматривается как одна из отрицательных черт Царицына, на основании которой новая, лучшая жизнь противопоставляется старой.
В текстах СМИ в словах, обозначающих полезные ископаемые, горные породы, камни, часто актуализируется дифференциальная / потенциальная сема ‘строительный материал’. Именуемые субстантивами рассматриваемой ЛСГ природные образования используются для благоустройства территории, проведения строительных работ: На месте никогда невысыхающих луж, где бродили свиньи, сейчас разбиты скверы с цветниками, с усыпанными волжским песком дорожками, скамьями для отдыха, статуями (СП, 09.05.1938), В станице всегда была непролазная грязь, постепенно самые непроходимые улицы забивают щебнем (ВП, 27.12.2002). Находят данные земные объекты применение и в сельском хозяйстве: К удивлению многих, плодородны и серые пески, в первую очередь за счет близкого залегания почвенных вод (ВП, 14.11.2002); и в сфере искусства: Временно мемориальные доски предполагается сделать из толстого зеркального стекла с золотыми буквами по красному фону, некоторые будут изготовлены из мрамора, а часть — из полированного дерева (СП, 05.11.1943).
Семантический потенциал субстантивов, обозначающих драгоценные камни, реализуется в текстах, посвященных жизни богатых людей: <…> единственное человеческое желание Сергея Васильевича — чтобы просто любили, не за бриллианты и квартиру, а просто так (ВП, 20.02.2001). Употребление названий драгоценных камней в ряду других материальных ценностей позволяет охарактеризовать человека только с внешней стороны, указать на то, что он пользуется почётом, уважением благодаря финансовому благосостоянию. При этом в подтексте прочитывается отсутствие интереса к внутреннему миру таких людей.
Для характеристики человека существительные, обозначающие драгоценные камни, могут использоваться в газетных текстах в переносном значении: Многие поют чужие, «с чужого плеча» песни. Чувствуется, что где-то в глубине скрыт талант, «алмаз», но ведь его нужно оттуда достать, отшлифовать, определённым образом подать, наконец (ВП, 24.11.1998). Слово алмаз указывает на неординарные способности, ценные качества характера. Похожее значение может приобретать существительное самоцвет, являющееся моносемантом. Примером служит заголовок публикации «Еланские самоцветы» (ВП, 19.04.2003), рассказывающей о талантливых певцах — людях с большими природными дарованиями — одного из районов Волгоградской области.
Проведённый анализ массива фактов позволяет сделать вывод о том, что в смысловой структуре существительных ЛСГ «горные породы, ископаемые, камни», употребляющихся в текстах областных СМИ в прямых и переносных значениях, главное место занимает дифференциальная сема ‘большая ценность’.
2.1.4 Лексико-семантическая группа «почва»
Существительные ЛСГ «почва» обозначают верхний слой земной коры и его часть, в которых развивается растительная жизнь. В семной структуре данных слов выделяются следующие интегральные признаки: ‘местоположение’ (грунт, ил, солонцы, солончаки, подпочва, чернозём), ‘состав’ (грязь, дёрн, ил, мерзлота, плывун, слякоть, солонцы, солончаки, суглинок, хлябь, чернозём), ‘цвет’ (подзол, суглинок, чернозём), ‘плодородие’ (подзол, чернозём).
В газетных публикациях слова ЛСГ «почва» употребляются для обозначения природных образований. При этом в процессе реализации их семантического потенциала актуализируются признаки, позволяющие конкретизировать особенности различных видов верхнего слоя земной коры: Берега покрыты вязким, ещё не просохшим илом (СП, 06.06.1939), <…> степной грунт вовсе не годится для отражения ударов волны (ВП, 05.06.2001).
Нередко в смысловой структуре субстантивов рассматриваемой ЛСГ актуализируются потенциальные семы, выражающие оценку почвы с точки зрения её пригодности для ведения сельскохозяйственных работ: Необходимо отметить, что почва лесного участка «Чернь» представляет из себя тяжёлый илистый суглинок, который из-за недостатка влаги образует цементную корку, трудно поддающуюся рыхлению (СП, 27.03.1939), Когда литр солярки стоил девять копеек, можно было пахать любые солонцы, склоны (ВП, 14.04.1998).
Из всех субстантивов рассматриваемой ЛСГ только слово грязь имеет в своей семантической структуре ЛСВ, не связанные с ТГ «неживая природа».
В значении «пыль, мусор, нечистоты и т. п.; отсутствие чистоты, гигиены» [БТС, с. 233] существительное грязь употребляется в текстах, в которых даётся оценка условиям, в которых живёт и работает человек: Прокофий Захарович вместе с партийной организацией и со всеми передовыми людьми МТС об’явил войну врагу стахановского труда — грязи (СП, 23.12.1939), Дальше начинается забор, огораживающий многоэтажки. Какой грязи здесь только не навалено! В районе этой самой грязи благополучно существует торговый киоск — так сказать, единственный из могикан, остальные в своё время отсюда эвакуировали (ВП, 15.05.2003).
Активно функционирует лексема грязь и в значении «естественные отложения, используемые как лечебное средство» [БТС, с. 233]: Моя соседка в прошлом году побывала в санатории «Эльтон», что в Палласовском районе. Уезжала — еле двигалась, а приехала — не узнать, бегает, как молодая девочка. Тамошние грязи, говорит, помогли. <…> Слава о целебных свойствах эльтонской грязи и солей, исцеляющих от всевозможных недугов, из поколения в поколение передавалась среди местных жителей (ВП, 07.04.1998). В данном примере актуализируются потенциальные семы ‘ценность’, ‘известность’, ‘богатство природы Волгоградской области’.
В текстах постсоветских СМИ у данного субстантива реализуется значение «о химических и радиоактивных веществах, болезнетворных организмах и т. п., загрязняющих окружающую среду, продукты и т. п.» [БТС, с. 233], что связано с актуальностью экологической проблематики в конце XX — начале XXI вв.: Наша область — не Сибирь. Тем не менее крупные промкомбинаты, заводы и металлургические, и химические имеются. Сколько дополнительной «грязи» они выплеснут в природу, если завтра впишутся в программу удвоения ВВП… (ВП, 18.12.2003).
Употребление существительного грязь в значении «о чем-л. низменном, безнравственном, бесчестном и т. п.» [БТС, с. 233] характерно для СМИ как 1938-1943 гг., так и 1998—2003 гг. При этом в газетах советских времён данный ЛСВ используется для характеристики положения за границей, противопоставления СССР зарубежным странам: «Коричневый дом» в Мюнхене был фашистским разбойничьим гнездом, иипаб-квартирой банды, которая уже успела запятнать себя кровью рабочих, грязью подлогов, жульничества и воровства (СП, 01.07.1941), Сегодня, в условиях международного положения, представляющего собой клубок из крови, интриг, грязи, шантажа и трусости правящей буржуазии, трудящиеся всего мира <…> будут сознавать, что только Советский Союз является страной, народ и правительство которой последовательно и до конца борются за мир во всем мире (СП, 04.05.1939). В публикациях газет постсоветского периода значение «о чем-л. низменном, безнравственном, бесчестном» актуализируется при оценке политической ситуации в России, а также качества СМИ: Ещё вчера дружно ратовавшие за чистоту городских улиц и едва ли нелично выходивише с метлами на уборку мусора, кандидаты успели уже забросать подъезды листовками, засорить Интернет сплетнями и выплеснуть на головы избирателей столько печатной и электронной грязи, что всё у них в мыслях окончательно перемешалось и перепуталось (ВП, 26.08.2003).
Так же, как и у существительных ЛСГ «горные породы, ископаемые, камни», в смысловой структуре субстантивов ЛСГ «почва» при обозначении ими природных образований ведущее положение среди свойств, релевантных для репрезентации русской языковой картины мира, занимает дифференциальная сема ‘большая ценность’. Производные ЛСВ реализуются у слова грязь, при этом актуализируются семантические компоненты, выражающие не только положительную, но и отрицательную оценку человеком реалий окружающей действительности.
2.2. Имена существительные тематической подгруппы «водные образования»
В состав тематической подгруппы «водные образования» входят субстантивы, обозначающие состояние воды, частицы воды, водные пространства, потоки и их части (табл. 2).
В качестве гиперонима всех существительных, которые являются единицами ЛСГ, входящих в состав рассматриваемой тематической подгруппы, выступает слово вода, что обусловлено семантикой данного субстантива. Существительное вода обозначает не только
Таблща 2
жидкость, но и речное, морское, озёрное пространство, его части, характер движения в нём [СУ, т. I, с. 323-324; ТСРЯ, с. 100].
При функционировании данного слова в текстах региональных СМИ в значении «прозрачная, бесцветная жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, моря и представляющая собой химическое соединение водорода с кислородом» [БТС, с. 139] делается акцент на практической значимости называемого им природного образования: В течение круглого года вязовцы подвозили питьевую воду за 3—5 километров из Волги (СП, 08.05.1938), Использование воды для обмолота дало возможность колхозу высвободить лошадей (СП, 17.08.1943), В середине сентября установки для доочистки питьевой воды появятся в образовательных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда (ВП, 28.08.2003), Мягкость бутербродного маргарина обусловливает входящий в него эмульгатор, который прочно связывает жир и воду (ВП, 23.07.2003), И тогда, преодолевая боль, она каждое утро начала заниматься специальной гимнастикой, обливаться холодной водой, прошла курс иглотерапии (ВП, 27.06.2003).
Значения «водное пространство моря, реки и т. п., его поверхность или уровень» и «потоки, струи, волны, водная масса» [ТСРЯ, с. 100] реализуются в основном в тех контекстах, где лексема вода функционирует наряду со своими гипонимами, например с существительным река. При этом в качестве контекстуальных синонимов могут выступать названия того или иного водного пространства / потока: Волга несёт свои воды к cepдцy страны — Кремлю (СП, 27.04.1938), Прошли они на острове Зелёном, омываемом водами Волги (ВП, 19.06.1999).
В текстах периода Второй мировой войны у данного слова часто реализуется значение «пространство, покрытое водой: реки, озера и болота» (книжн., геогр.) [СУ, т. I, с. 323]: В неприятельские воды сброшены мины (СП, 07.01.1942), что обусловлено значимостью вопроса сохранения территориальной целостности Советского Союза, необходимостью разграничения «своего» и «чужого» пространства. В современных словарях представлена более чёткая семная структура данного ЛСВ: «моря, реки,озёра, каналы, проливы, относящиеся к данному государству, региону, территории» [ТСРЯ, с. 100].
Нередко в текстах СМИ создается представление о воде как об одушевлённом предмете: Вода не прощает ошибок, и каждое нарушение, будь то пресловутое УНС — управление судном в нетрезвом виде, его перегруз или того хуже — пересечение судового хода в неустаноленном месте (этим, кстати, чаще всего грешат лихие владельцы гидроциклов, выписывающие кренделя вокруг теплоходов), можem привести к трагедии (ВП, 06.07.2002). Такой эффект достигается при помощи приёма олицетворения — использования глагола прощать, наделяющего объект неживой природы способностью к человеческим действиям. В такой же функции употреблён глагол выгнать в предложении Вода выгнала из деревень массу крестьян (СП, 23.08.1939). Лексема вода в данном случае выступает в качестве контекстуального синонима существительного наводнение.
Субстантивы ЛСГ «водные потоки», в отличие от единиц других ЛСГ, относящихся к тематической подгруппе «водные образования», имеют два гиперонима: вода и поток. Лексема поток приобретает такой статус благодаря связи с глаголом течь, представленности в обобщенном виде в структуре её главного значения «стремительно движущаяся в каком-л. направлении масса воды» [БТСРС, с. 112] семантики процесса, релевантной для существительных, репрезентирующих водные потоки.
Данный субстантив редко функционирует в текстах региональных СМИ в прямом значении. Чаще всего он реализует ЛСВ «движущаяся в каком-л. направлении (направлениях) масса чего-л.» [БТС, с. 942]. В этом значении существительное поток сочетается в публикациях постсоветских региональных газет, главным образом, со словами ЛСГ «финансы»: <…> дополнения позволят увеличить поток инвестиций в промышленность региона (ВП, 30.03.2000), <…> теряется контроль за огромными денежными потоками (ВП, 07.04.2001).
В текстах времён Второй мировой войны синтагматические возможности слова поток реализуются иначе: доминирует сочетаемость с единицами ЛСГ «транспорт», «пищевые продукты»: <…> пусть увеличивается поток боевых машин, вооружения и боеприпасов, идущих на фронт! (СП, 07.06.1942), Необходимо, чтобы колхозы организовали широкий поток продуктов сельского хозяйства на рынки города (СП, 12.12.1940), Любовь народа к своей армии сказывается в непрерывном потоке подарков на фронт (СП, 03.01.1943), Реакционеры жестоко расправились с рабочими, потопили в потоках крови их демократические завоевания (СП, 14.04.1938).
В публикациях постсоветских газет реализуется ещё одно значение лексемы поток — «часть общего состава учащихся, разделённых для проведения каких-н. занятий, испытаний» [ТСРЯ, с. 708]: В нынешнем потоке было 22 студента <…> (ВП, 21.04.1998). В СУ данное значение содержит помету (нов.) [СУ, т. III, с. 655]. По-видимому, этим объясняется низкая частотность его употребления в СМИ конца 30-х — начала 40-х гг. XX в.
Такую же характеристику получает значение «конвейерная система производства», а для ЛСВ «непрерывно, один за другим» указана сфера его функционирования — (спорт.) [Там же, с. 655]. В СМИ середины XX в. встречаются случаи наложения данных значений: Брёвна идут по конвейеру, одно за другим, беспрерывным потоком (СП, 13.10.1940), Непрерывным потоком идут к нам детали из всех цехов (СП, 26.12.1943). При этом в процессе реализации первого ЛСВ актуализируются признаки, характеризующие ситуацию движения чего-либо на конвейере, а при употреблении второго — особенности движения. Кроме того, усиление, конкретизация значения достигается при помощи прилагательных
непрерывный, беспрерывный и сочетания один за другим.
Явление наложения характерно и для значений «стремительно текущая водная масса» и «движущаяся масса чего-н.»: Через астраханские порты непрерывным потоком тянутся караваны барж с бакинской нефтью (СП, 23.12.1939). Это позволяет указать не только на непрерывный характер движения транспорта, но и на водную поверхность, на которой оно осуществляется.
Активное функционирование существительных вода и поток в текстах областных СМИ, связь обозначаемых ими объектов действительности с жизнью людей позволяют сделать вывод о высоком семантическом потенциале данных лексем.
2.2. 1. Лексико-семантическая группа «состояние воды»
В природе вода не всегда представлена в виде жидкости. Ей также свойственны газообразное и твердое состояния.
В текстах СМИ существительное жидкость редко употребляется в качестве замены слова вода. Это обусловлено тем, что, во-первых, в семной структуре слова вода компонент ‘жидкое состояние’ является интегральным, а во-вторых, слово жидкость, главное значение которого произведено от ЛСВ «имеющий свойство течь» [ТСРЯ, с. 235] прилагательного жидкий, употребляется по отношению не только к воде, но и любому веществу в жидком состоянии: В танк полетели бутылки с зажигательной жидкостью и яркое пламя заплясало по броне (СП, 23.10.1943), Водитель Алик уже слил в громадный ржаво-коричневый отстойник угольного цвета жидкость (трудно поверить, что когда-то вся эта дрянь текла в Волгу) (ВП, 02.06.2000).
Для обозначения воды в замерзшем, затвердевшем состоянии используется слово лед [ТСРЯ, с. 405]. В региональных СМИ данное существительное используется для обозначения замерзшей поверхности водного пространства: В феврале 1943 года «Челюскин» погиб, раздавленный льдами (СП, 12.12.1939), Спасатели провалились под лед и стали тонуть (ВЦ, 20.12.2000); специально замороженной в небольшом количестве воды: Торговлю прохладительными напитками, мороженым и льдом надо организовать так, чтобы запросы граждан были удовлетворены полностью (СП, 29.07.1938), <…> не забудьте <…> положить в бокал с шампанским кусочек чистого льда (ВП, 29.12.2001), Помимо спирта, конечной продукцией предприятия станет так называемый сухой лед, который широко используется в пищевой промышленности (ВП, 16.09.2000); площадки для игры в хоккей, катания на коньках: Хоккеисты Сталинграда вышли на лед при первых же заморозках (СП, 27.12.1939), Если катание устраивается на реке, озере или пруду, то необходимо тщательно проверить прочность льда (ВП, 27.11.1998).
Газообразное состояние воды обозначается словом пар [БТС, с. 779]: Сильнее загудели котлы, нагоняя пар (СП, 03.04.1938), Спускаемся в пещерный храм: свечу на уровень головы поднять, видно, как пар изо рта идет (ВП, 11.06.2003). Встречаются в текстах СМИ и случаи реализации оттенка значения «испарение некоторых веществ» (БТС, с. 779]: <…> исследования выявили в учебном корпусе многократное превышение допустимых норм паров формалина, формальдегида, ксилола и прочих легко воспламеняющихся ядовитых веществ (ВП, 08.08.2003).
Как показывает проанализированный материал, для обозначения состояний воды как природного образования в газетных публикациях функционирует в основном существительное лед, при этом в его смысловой структуре актуализируется сема ‘часть водного пространства’, указывающая на принадлежность данного субстантива ЛСГ ‘часть водного потока / пространства’. Газообразное состояние воды в природе имеет значение для носителей языка только в связи с природными явлениями, поэтому употребления существительного пар в текстах региональной публицистики редки. При обозначении жидкого состояния вместо субстантива жuдкость используется лексема вода.
2.2.2. Лексико-семантическая группа «частицы воды»
Единицами ЛСГ «частицы воды» являются слова, обозначающие небольшое количество воды: брызги, влага, капля.
Слово капля функционирует в текстах СМИ во всех зафиксированных в толковых словарях значениях [ТСРЯ, с. 322—323]: «маленькая округлая частица жидкости»: Во многих районах идет снег и надо бороться за каждую каплю влаги, чтобы она осталась на полях (СП, 29.03Л 941), Звучала «мелодия природы»: стучали капли дождя, слышался шум волны, пение птиц (ВП, 19.02.1999), <…> а дизтопливо поступает по каплям, без масла (ВП, 24.04.1998); «жидкое лекарство, дозируемое в каплях»: Несколько капель йодистого калия, оказывается, было достаточно, чтобы избежать заболевания «щитовидки» (ВП, 18.06.1999); «самое малое количество чего- н.»: Оно <«существо», т. е. маньяк> не достойно ни капли снисхождения и сострадания (ВП, 23.11.2002).
Субстантив брызги обозначает множество разлетающихся капель, образующихся при ударе или всплеске [БТС, с. 99]. В газетных текстах данное существительное используется в основном для создания образности: Им подмигивают красные и белые бакены, а крупные звезды дробятся в черной воде, рассыпаясь миллионами блестящих брызг (ВП, 06.07.2002). Такой эффект достигается благодаря актуализации в его смысловой структуре потенциальной семы ‘взаимодействие с оптическими явлениями’.
Способность капель жидкости светиться, сверкать проявляется при употреблении субстантива брызги в переносном значении «мелкие частицы вещества, разлетающиеся от удара в разные стороны / о лучах света» [БТС, с. 99]: <ракета> рассыпалась мелкими, горящими брызгами (СП, 15.02.1942), яркие огненные брызги от электросварки (ВП, 27.06.2000).
Образная семантика лексемы брызги способствует ее функционированию в заголовках. Употребление данного существительного в заголовке публикации «Золотые» брызги (ВП, 30.06.2001) о победах волгоградских спортсменов на чемпионате России по прыжкам в воду позволяет сделать акцент на множественности побед, блеске золотых медалей, связи с водным пространством.
Лексема влага входит в состав ЛСГ «частицы воды» на том основании, что обозначает только ту часть воды, которая содержится в чем-либо, впитывается во что-либо лишь в ограниченном количестве: Озимые посевы вышли из-под снега в неповрежденном состоянии. В земле небольшой запас влаги (СП, 02.04.1938), Практически по всей территории области прошли обильные дожди. <…> Посевы сельскохозяйственных культур наконец-то получили долгожданную влагу (ВП, 21.05.1999).
Так же, как и существительные ЛСГ «состояние воды», субстантивы ЛСГ «частицы воды» редко используются в областных печатных СМИ для обозначения объектов неживой природы. Большую роль в репрезентации русской языковой картины мира играют их переносные значения, в структуре которых актуализируются семы ‘мелкий’, ‘малый’.
2.2.3. Лексико-семантическая группа «водные пространства»
ЛСГ «водные пространства» представлена в русском языке существительными, обозначающими пространства, покрытые водой (пресной или соленой) и ограниченные сушей. Свойства называемых ими природных объектов отражены в интегральных семах ‘местоположение’ (все субстантивы), ‘размер’ (бассейн, ильмень, лужа, море, озеро, океан, плес), ‘характер подводного рельефа’ (море), ‘свойства поверхности’ (болото, болотина), ‘наличие растительности’ (болото, болотина), ‘функция’ (водоем, водохранилище, лиман, океан, пруд), ‘роль в жизни человека’ (бухта, водоем, водохранилище, гавань, лиман, пруд).
Некоторые субстантивы ЛСГ «водные пространства» обозначают не только природные, но и искусственные образования. Согласно лексикографическим источникам, к ним относятся слова пруд, водохранилище, водоем [БТСРС, с. 111—112].
Возможность данных лексических единиц выступать в качестве номинации искусственно созданных водных пространств реализуется при их функционировании в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда». Так, в предложениях Выстроен новый обширный клуб, заложено два пруда <…> (СП, 06.11.1940), <…> слишком уж близко <…> построены пруды (ВП, 17.04.2003) содержится косвенное указание (посредством причастий построен и заложен) на то, что пространство, именуемое лексемой пруд, создается человеком. Нередко такая информация выражается эксплицитно: <…> масса искусственных водоемов и прудов создают благоприятнейшие условия для расширения бахч, посевов овощей и картофеля <…> (СП, 08.10.1938), Заметьте, там редко кто плавает непосредственно в море: для этого существуют специальные искусственные водоемы, в которых плавать и удобнее, и безопаснее (ВП, 07.08.2002). Актуализация категориально-лексической семы ‘искусственное образование’ обусловлена необходимостью освещения в газетных публикациях проблем, связанных с поиском дополнительных источников воды для борьбы с засухой, созданием более комфортных условий для жителей Нижневолжского региона.
При функционировании в текстах региональных газетных изданий субстантивов ЛСГ «водные пространства» нередко происходит конкретизация пространственной характеристики. При этом в смысловой структуре существительных актуализируются потенциальные семы ‘поверхность, по которой перемещается кто-, что-л.’: Наши суда ходят по Амуру, а быстроходные катеры бороздят океан (СП, 11.05.1938), Чомга разъезжает на нем <гнезде> по водоему, как на плоту (ВП, 04.06.2002); ‘место обитания животных’: Изредка получая зерновую подкормку, гуси и утки в основном довольствуются естественным кормом, который они находят в речках, озерах и на лугах (СП, 13.12.1940), К работе по перемещению рыбок в глубоководные ерики и озера к профессионалам хозяйства подключаются ихтиологи, инспектора рыбоохраны и юные любители природы отрядов «Голубые патрули» (ВП, 16.08.1999); ‘место ведения боев’: Шесть дней и шесть ночей большой караван судов, шедший к нашим заполярным берегам, продвигался под частыми атаками с моря и с воздуха (СП, 02.07.1942), 85 лет назад в ходе первой мировой войны определились основные направления боевого применения авиации на море (ВП, 06.02.2001).
При функционировании в текстах СМИ 1930-х — 1940-х гг. и рубежа ХХ-ХХI вв. субстантивов ЛСГ «водные пространства» в прямых значениях наблюдается относительное однообразие.
Исключение составляет лексема лужа. В газетных публикациях в смысловой структуре данного слова ярко выражен эмоционально-оценочный компонент. В предложении А на улице Московской, около дома № 5, асфалыт просел и образовалась громадная лужа (ВП, 08.12.2001) возникновение лужи получает негативную оценку, поскольку она создает неудобства для людей, образует преграду на их пути. Для выражения эмоционального отношения к данному природному объекту используются лексемы, характеризующие его с количественной стороны: громадная лужа (ВП, 08.12.2001), лужи-океаны (ВП, 13.01.1998), что позволяет гиперболизировать проблему, связанную с наличием луж на дорогах. В текстах газеты «Сталинградская правда» слово лужа выступает в качестве компонента ассоциативного ряда, связанного с образом царской эпохи: Все зловонное наследие старого Царицына забылось людьми, как забылся и сам городишко с его темными, замусоренными улицами, лужами, кабаками, публичными домами (СП, 11.05.1938).
Различие функционирования существительных ЛСГ «водные пространства» в советских и постсоветских СМИ также выявляется при анализе их переносных значений.
Так, если случаи употребления лексемы море в значении «огромное количество, чрезвычайное обилие кого-, чего-л.» [БТС, с. 556] в СМИ 1930-х — 1940-х гг. единичны: море цветов (СП, 01.09.1938), среди моря мельчайших хозяйств (СП, 09.12.1939), то в публикациях газет, выходивших в постсоветское время, отмечается активное функционирование рассматриваемого субстантива в указанном значении, расширение его синтагматических возможностей, ‘ например: море информации (ВП, 26.02.1998), море талантов (ВП, 11.04.1998), море машин (ВП, 14.04.1998), море цветов (ВП, 23.06.1999), море музыки (ВП, 23.07.1999), море денег (ВП, 25.04.2000), море проектов (ВП, 27.07.2000), море радости (ВП, 27.12.2002), море огней (ВП, 17.01.2003), море проблем (ВП, 22.03.2003) и др.
По-разному реализуются синтагматические возможности слова море и при его употреблении в значении «об обширном пространстве, занятом, заполненном кем-, чем-л.» [БТС, с. 556]. И в советских, и в постсоветских СМИ семантический потенциал данного ЛСВ реализуется при оценке общественно-экономических явлений: клокочет смрадное капиталистическое море (СП, 01.04.1938), штормовое море рыночных отношений (ВП, 10.10.2001); описании растительного мира: Был такой же погожий день, в траве трещали кузнечики, легкие волны пробегали по необ’ятному морю пшеницы (СП, 15.12.1940), И словно загорелось «зажженное» росой фиолетовое поле цветущей люцерны. Первый раз в жизни я дышала дивным ароматом умытых дождем цветущих фацелий и любовалась их «сиреневым морем» (ВП, 02.07.2003). Однако в прессе рубежа ХХ-ХХI вв. встречаются случаи, когда значение «об обширном пространстве, занятом, заполненном кем-, чем-л.» актуализируется при характеристике иных сторон действительности: Этот вопрос мы адресовали ведущему художнику-модельеру АО «Виктория» Галине Кравцовой, обязанной по долгу службы отслеживать все шторма и штили, отливы и приливы, бури и легкие бризы на бурном море, именуемом «Мужская мода» (ВП, 23.02.2001).
В текстах региональных СМИ встречаются случаи наложения переносных значений «об обширном пространстве, занятом, заполненном кем-, чем-л.» и «огромное количество, чрезвычайное обилие кого-, чего-л.»: Нынешний «главнокомандующий» Маннергейм потопил выступление народа в море крови (СП, 10.12.1939). В приведенном примере в словосочетании в море крови главное слово употреблено в значении «огромное количество, чрезвычайное обилие кого-, чего-л.». Однако глагол потопить и описываемая в тексте ситуация предполагают наличие в семантике словоформы в море пространственной характеристики.
В значении «неизмеримая масса чего-н.» [БТС, с. 707] также употребляется слово океан: Ленин — океан народной мудрости, силы, правдивости, гуманизма (СП, 21.01.1939), «эЛСи» — остров удовольствий в океане проблем (ВП, 30.12.2003).
В процессе функционирования в текстах постсоветских СМИ лексема океан может использоваться в значении «водоем, разделяющий сушу на отдельные материки» [БТС, с. 707]: По результатам третьего тура около десяти человек из нашего региона поедут за океан <в Америку> и целый год будут жить в американских семьях (ВП, 24.10.2003).
Сходный ЛСВ — «о водном пространстве, отделяющем родную страну от иностранных государств» [БТС, с. 566] — выделяется в семантической структуре слова море. Использование в данном значении существительных ЛСГ «водные пространства» в предложении Город Сталина знают за далекими границами, морями, океанами (СП, 30.12.1939) позволяет обратить внимание читателей на широкую известность Сталинграда за пределами СССР.
При функционировании в СМИ лексемы море в значении «о водном пространстве, отделяющем родную страну от иностранных государств» в ее смысловой структуре может отражаться семантика времени: пенсия — «за морем» (ВП, 27.12.2003). Такая особенность обусловлена тем, что словоформа за морем семантически сближается с наречием далеко, которое может обозначать не только значительное расстояние между объектами, но и большой промежуток времени [ТСРЯ, с. 179].
Выявленные общие черты семантической и смысловой структуры существительных море и океан объясняются их принадлежностью к одной ЛСГ, а также спецификой обозначаемых данными лексическими единицами реалий: слова море и океан называют самые большие водные пространства. Кроме того, следует учитывать способность данных субстантивов вступать в отношения синонимии: море является оттенком прямого значения «водное пространство между материками земной поверхности» лексемы океан [СУ, т. П, с. 783].
Значимость имен существительных ЛСГ «водные пространства» для репрезентации русской языковой картины мира проявляется при актуализации в процессе их функционирования в советских и постсоветских региональных СМИ сем, выражающих практическую ценность обозначаемых данными лексическими единицами природных объектов. При реализации производных значений используется семантический потенциал существительных, обозначающих обширные водные пространства.
2.2.4. Лексико-семантпческая группа «водные потоки»
Существительные ЛСГ «водные потоки» обозначают стремительно движущуюся в каком-л. направлении массу воды. Различия между этими словами обнаруживаются на уровне интегральных признаков, позволяющих разграничивать природные объекты: ‘местоположение’ (водопад, источник, проток, струя), ‘размер’ (река, ручей, струя), ‘характер движения’ (водопад, источник, каскад, ключ, река, родник, фонтан), ‘температура’ (гейзер), ‘взаимодействие с другими водными массами’ (приток, проток, река), ‘происхождение’ (гейзер, проран, река, струя, фонтан).
Наиболее частотным по употреблению в региональных СМИ (с учетом функционирования в составе топонимов) является слово река в значении «естественный значительный и непрерывный водный поток, текущий в разработанном им русле от истока к устью, берущий поверхностные и подземные воды с площадей своих бассейнов» [БТСРС, с. 112], что объясняется географическими особенностями Нижнего Поволжья, зависимостью жизни человека от протекающих на территории региона рек: Великая русская река превращается в глубоководный путь, который будет соединен каналами с северными морями и Черным морем (СП, 27.04.1938), <…> именно эта великая река <Волга> является важнейшим источником жизни Волгограда и требует к себе бережного отношения на государственном уровне (ВП, 10.12.2002). Значимость данного природного образования для человека нередко подчеркивается в газетных текстах при помощи приема олицетворения: Извилистой лентой разрезает река зеленый луг (СП, 28.07.1943), <…> реки ее <Родимой Земли> животворные, словно сосуды с кровью (ВП, 07.03.1998).
При функционировании рассматриваемого существительного в текстах региональных СМИ в его смысловой структуре чаще всего актуализируются потенциальные семы ‘транспортная линия’: Здесь на первое место надо поставить использование имеющихся у нас широких возможностей к перевозкам горючего, хлеба и других громоздких товаров по рекам (СП, 12.10.1938), На самом же деле всю зиму два неболыиих парома, ведомые белым катерком, курсируют десятки раз на дню по реке, перевозя строительную технику, грузы, самих мостостроителей (ВП, 18.02.2000); ‘эстетическая значимость’: Можно часами стоять на берегу реки и, не отрываясь, глядеть на ее полную, радостную жизнь (СП, 11.05.1938), Величественна и полноводна великая русская река — Волга (ВП, 03.07.1938); ‘источник снабжения водой земного пространства’: С постройкой грандиозного Куйбышевского гидроузла воды великой русской реки будут пущены на сухие степи Заволжья, часто страдающие от засух (СП, 11.05.1938), <…> река стала судоходной, остановилась эрозия полей, поднялись молодые леса (ВП, 22.09.1998); ‘источник природных богатств’: Советский Союз — страна несметных богатств. Чего только нет в недрах, морях, реках нашей родины! (СП, 06.02.1939), Сначала люди просто пользовались окружающей их средой, дарами земли, лесов, рек, морей (ВП, 06.06.2003).
Употребляется данное существительное в газетных текстах и в переносном значении — «огромное количество кого-, чего-л.» [БТС, с. 1114]: <…> льется рекой шампанское (ВП, 25.10.2002), Не пересыхают реки доброты (ВП, 22.04.2003).
В региональных СМИ времен Второй мировой войны, в отличие от газетных изданий рубежа XX—XXI вв., при функционировании субстантива река в прямом значении в его смысловой структуре актуализируется потенциальная сема ‘стратегический объект’: Фашисты обрушили всю свою ярость и злобу на великую русскую реку, на ее берега (СП, 14.02.1943). В переносном значении данная лексема употребляется для характеристики военных действий: За каждую пядь захваченной русской земли немцы платят реками крови <…> (СП, 30.07.1942).
Для обозначения неширокого потока используется слово струя. Наличие в семной структуре его главного значения дифференциального признака ‘узкий’ способствовало образованию ЛСВ «узкий поток воздуха, дыма, запаха и т. п.» [БТС, с. 1283], который часто реализуется в текстах СМИ.
Примером употребления субстантива струя в значении «поток жидкости» могут служить предложения Струи нефти обжигали тело (СП, 08.10.1943), <…> мы в овраге, у мощной ледяной струи <родника>, бьющей из каменистой стены, любовно выложенной дорожниками из Жирновского ДРСУ (ВП, 24.08.2000).
В значении «поток воздуха» существительное струя функционирует в конструкциях типа <‘…> из мехов с новой силой рванулась свежая струя воздуха (СП, 18.05.1941), струи подогретого воздуха (ВП, 24.04.2001).
Лексема струя реализует и другое переносное значение — «направление, сторона, черта в чем-л.» [БТС, с. 1283]: Во второй смене «Детские творческие дачи» под руководством Л. Б. Сучилиной внесли свою живую струю в лагерную жизнь (ВП, 04.08.1999).
Существительные источник, родник, ключ в прямом значении — «естественный водный поток, представляющий собой подземные воды, выходящие на поверхность земли» [БТСРС, с. 112] — функционируют как синонимы. У данных слов совпадают и переносные значения: «то, из чего берется, черпается что-л., что дает начало чему-л., служит основой для чего- л.» [Стилистический словарь публицистики Г. Я. Солганика (далее — ССП), с. 225, 243, 490].
При реализации в текстах региональных печатных СМИ главного ЛСВ субстантива источник может подчеркиваться ценность для людей именуемого им природного объекта: <…> в Сталинградской области есть большие запасы <…> минеральных источников (СП, 10.02.1939); В Волгоградской области 12 наиболее ценных водных источников имеют статус памятника природы (ВП, 27.07.1999). Аксиологическая коннотация характерна и для переносного значения, она закреплена за дифференциальными семами ‘начало’, ‘основа’ и поддерживается благодаря представлению носителей языка о неиссякаемых водных источниках, бьющих из-под земли, как чистых водных потоках, не содержащих вредных для здоровья веществ. При реализации данного значения в газетных текстах наблюдается тенденция к широкой сочетаемости слова источник с единицами ЛСГ «финансы»: Взять хотя бы местное хозяйство, которое может и должно стать серьезным источником дополнительного роста бюджетных доходов (СП, 03.01.1939), Бюджеты прошлых лет зачастую имели источники доходов, о которых не принято было говорить прямо (ВП, 16.02.2000); ЛСГ «эмоциональные и нравственные качества человека»: Источником силы нашей армии и ее бойцов является сознание правоты того дела, за которое борется наша страна (СП, 23.01.1942), Источник оптимизма для губернатора (ВП, 13.02.1998). Следует отметить, что если в текстах газеты «Сталинградская правда» количество употреблений данного слова для описания экономической и социальной сторон действительности представлено примерно в равном соотношении, то в публикациях издания «Волгоградская правда» существительное используется, главным образом, для обозначения денежных средств. Указание на основы нравственных или эмоциональных качеств осуществляется в текстах постсоветской региональной печати при помощи переносных значений субстантивов родник ЛСГ «водные потоки» и исток ЛСГ «часть водного потока / пространства». Так, существительное родник используется для описания духовной, творческой деятельности человека, его здоровья: Но лучшим украшением нашей области являются новые прекрасные люди, неиссякаемый родник творческой инициативы, пламенно преданные делу рабочего класса (СП, 10.04.1940), Родники российской культуры (об одаренных школьниках г. Жирновска) (ВП, 04.01.2002), Каждый плод, каждая ягода — родник здоровья (ВП, 29.06.2002).
Среди других членов ЛСГ «водные потоки» в газетах рассматриваемых нами периодов в переносных значениях также функционирует существительное каскад. В статье о китайских боевых искусствах реализуется ЛСВ «стремительный, неудержимый поток, обилие чего-л.» [БТС, с. 421]: <…> каскад пластичных, отточенных движений, разящие удары мечом (ВП, 11.07.2001). Встречаются и случаи употребления анализируемого субстантива в значении «группа последовательно соединенных однотипных устройств, сооружений» (техн.) [БТС, с. 421]: Обыкновенный микрофон превращает звуковые колебания в электрические импульсы. Они усиливаются несколькими каскадами электронных ламп (СП, 18.06.1939), гидроэлектростанции каскада ГЭС (ВЕС, 26.09.2001). Данные ЛСВ связаны с прямым благодаря дифференциальной семе ‘последовательность’.
В переносном значении слова ручей «о любой жидкости, обильно текущей, струящейся» [БТС, с. 1134] реализуется способность субстантивов ЛСГ «водные потоки» обозначать большое количество чего-л.: Душевно вкладываясь в каждую песню, Крис тем не менее не скакал по сцене подобно мартышке, не демонстрировал «работу» ручьями пота, не подменял пение якобы душевными разговорами (ВП, 17.05.2002). В процессе реализации этого значения его структура может расширяться: Но год от года истоки денежных ручьев все более пересыхают (ВП, 10.01.1998). В данном случае существительное ручей обозначает не обильно текущую жидкость, а финансовые потоки. Следует отметить, что в указанном значении этот субстантив функционирует в форме множественного числа, что объясняется необходимостью деактуализировать в прямом значении дифференциальную сему ‘небольшой размер’ и стереть его связь с производным значением: экспликация семантики большого количества осуществляется путем либо подстановки числительного (например, в три ручья), либо усиления роли грамматического значения числа (например, ручьи крови).
Существительные, обозначающие водные потоки, при функционировании в областных СМИ отражают представления человека о них как жизненно важных природных ресурсах. Сема ‘большая ценность’ связывает в русской языковой картине мира прямые и переносные значения слов источник, родник, ключ. В структуре переносных значений релевантными для отражения представлений носителей языка о действительности также являются семы ‘большая масса’, ‘высокая скорость’, ‘определенное направление’.
2.2.5. Лексико-семантичсская группа «часть водного пространства / потока»
ЛСГ «часть водного пространства / потока» включает в свой состав существительные, обозначающие часть водного пространства или потока, которая обычно характеризуется определенным расположением, физическими свойствами. В качестве интегральных в значениях слов данной ЛСГ выступают следующие признаки: ‘местоположение’ (бар, бухта, верховье, взморье, гавань, дельта, гирло, губа, заводь, залив, затон, излучина, исток, лагуна, лукоморье, наледь, низовье, полынья, пролив, разводье, слияние, старица, стрежень, устье), ‘размер’ (айсберг, бар, бухта, гирло, горло, глубина, глубь, горло, ерик, заводь, лука, мель, отмель, порог, пролив, проток, проран, пучина, рукав, стрежень, фиорд), ‘форма’ (пена), ‘состав’ (рассол), ‘скорость течения’ (быстрина, гладь, заводь, стрежень, стремнина), ‘характер движения в течении’ (быстрина, водоворот, омут), ‘уровень воды’ (бездна, глубоководье, мелководье, перекат, полноводье), ‘земля под водой’ (брод, грунт, дно, мель, отмель, порог, риф, стремнина, яма), ‘происхождение’ (айсберг, бар, лед, омут, отмель, проран), ‘функция’ (горло, пролив), ‘роль в жизни человека’ (брод, бухта, гавань, мель, порог).
Для слов, обозначающих водные пространства, характерно функционирование в метонимическом значении: На конференции присутствовало 114 делегатов с верховьев Волги, Камы, с судов и судоремонтных заводов (СП, 18.12.1940), А пойменные участки и всю дельту Волги надо засевать высокоценными, доходными культурами, в том числе и субтропическими (СП, 05.04.1939), Эту песню, кстати, нашли на фестивале в Воронеже, в верховьях Дона (ВП, 22.05.2001), На речном перекате в пригороде Жирновска оборудовано место отдыха горожан (ВП, 08.07.2003). В данных предложениях существительные рассматриваемой нами ЛСГ именуют прилегающую к части водного пространства территорию, на которой живут люди, проводятся культурные мероприятия, высеиваются семена растений. В текстах периода Второй мировой войны в смысловой структуре субстантивов, обозначающих начальную или конечную часть водного потока или пространства, актуализируется потенциальная сема ‘место военных действий’: 31 марта наши войска в низовьях Волги заняли важнейший узел немецкой обороны <…> (СП, 02.04.1943).
Метафорически-переносные значения реализуются в основном у существительных, которые именуют водные глубины.
ЛСВ существительного дно «о деклассированных членах общества, их среде, быте» [БТС, с. 263] функционирует в текстах, в которых затрагивается социальная проблематика: Очевидно, правоохранительные органы города и района всерьез взялись за главное камышинское криминалистическое «дно» (ВЦ, 17.07.1999), Незачем показывать всем, что из-за временной неудачи вы скатываетесь на дно жизни (ВП, 27.02.2003), Ее супружсеская лодка давно ушла на дно (ВП, 22.02.2003).
В подзаголовке статьи о пленэре Зеленый омут в переносном значении слова омут «обстановка, среда, которые затягивают человека и могут нравственно погубить» [БТС, с. 713] передана отрицательная оценка событий, происходящих в сфере искусства. Указанная лексема употребляется в тех фрагментах текста, в которых говорится об унынии и скуке, которые наводит пленэр, об однообразии взгляда и красочного спектра пленэрных картин (ВП, 26.12.2001).
Субстантив пучина при функционировании в текстах региональных печатных СМИ реализует свой семантический потенциал в ЛСВ «средоточие, скопление (обычно чего-л. неприятного)» [БТС, с. 1050]: Поджигатели войны не хотят униматься, они хотят ввергнуть наш народ в кровавую пучину (СП, 18.08.1940), «Краснослободское» тоже было ввергнуто в пучину перестроечных аграрных реформ <…> (ВП, 01.04.2000), А страна тем временем продолжает погружаться в пучину безысходности и безнаказанного чиновничьего вранья (ВП, 23.08.2000). Переносное употребление данного слова позволяет изобразить негативные стороны политической и экономической сфер действительности.
Развитию у существительных, служащих наименованием водных глубин, переносных значений с отрицательной коннотацией послужило представление о водных глубинах как о самой низкой «ступени» водного пространства, труднодоступной, отдаленной от человека, восприятие ее как чего-то таинственного, неизведанного, непонятного, вызывающего страх.
Для метафорически-переносных значений других существительных ЛСГ ((часть водного пространства / потока» также характерна отрицательная коннотация. Например, субстантив исток может использоваться в текстах СМИ в значении «начало, первоисточник чего-н.» [ТСРЯ, с. 310] для указания на проблемы, существующие в сфере строительства: <…> у истоков нынешнего долгостроя стоял «Волгоградстрой», и конкретно Анапских как подрядчик (ВП, 11.07.2002). Однако такие случаи употребления единичны, так как в смысловой структуре слова исток обычно актуализируется положительная коннотация, связанная с понятием культурно-нравственных ценностей: Подросткам надо давать возможность прикоснуться к истории Великой Отечественной, к глубинным истокам понятия «патриотизм» (ВП, 11.09.2001), И хотя большая часть жизни Ниной Ивановной Арефьевой прожита в Михайловке, истоки ее творчества именно здесь, в маленьком казачьем хуторке (ВП, 09.02.2000).
Таким образом, у существительных рассмотренной ЛСГ в текстах региональных СМИ значение «часть водного пространства / потока» редко реализуется в чистом виде: на него накладываются семы, обозначающие части прилегающей к воде суши. Релевантными для репрезентации русской языковой картины мира компонентами, выделяемыми в структуре метафорически-переносных значений, образованных от субстантивов ЛСГ «часть водного пространства/потока», являются семы, отражающие в основном представления человека о водных глубинах и выражающие его отрицательное отношение к определенным объектам и явлениям действительности.
2.3. Имена существительные тематической подгруппы «небесные образования»
Среди слов со значением «природные образования» должен выделяться класс существительных, служащих наименованием стихии воздуха. При этом следует иметь в виду, что эта часть неживой природы противопоставлена стихиям земли и воды на уровне не только атмосферы нашей планеты, но и космического пространства, поэтому выделение тематической подгруппы, в название которой будут входить лексемы воздух, воздушный, является не вполне корректным.
Представление о воздушном, небесном, космическом пространствах, их границах зафиксировано в совокупности значений лексемы небо, в связи с чем возможно объединение существительных, которые обозначают объекты неживой природы, находящиеся над землей, в составе тематической подгруппы «небесные образования», куда входят ЛСГ существительных «часть неба» и «небесные тела» (табл. 3).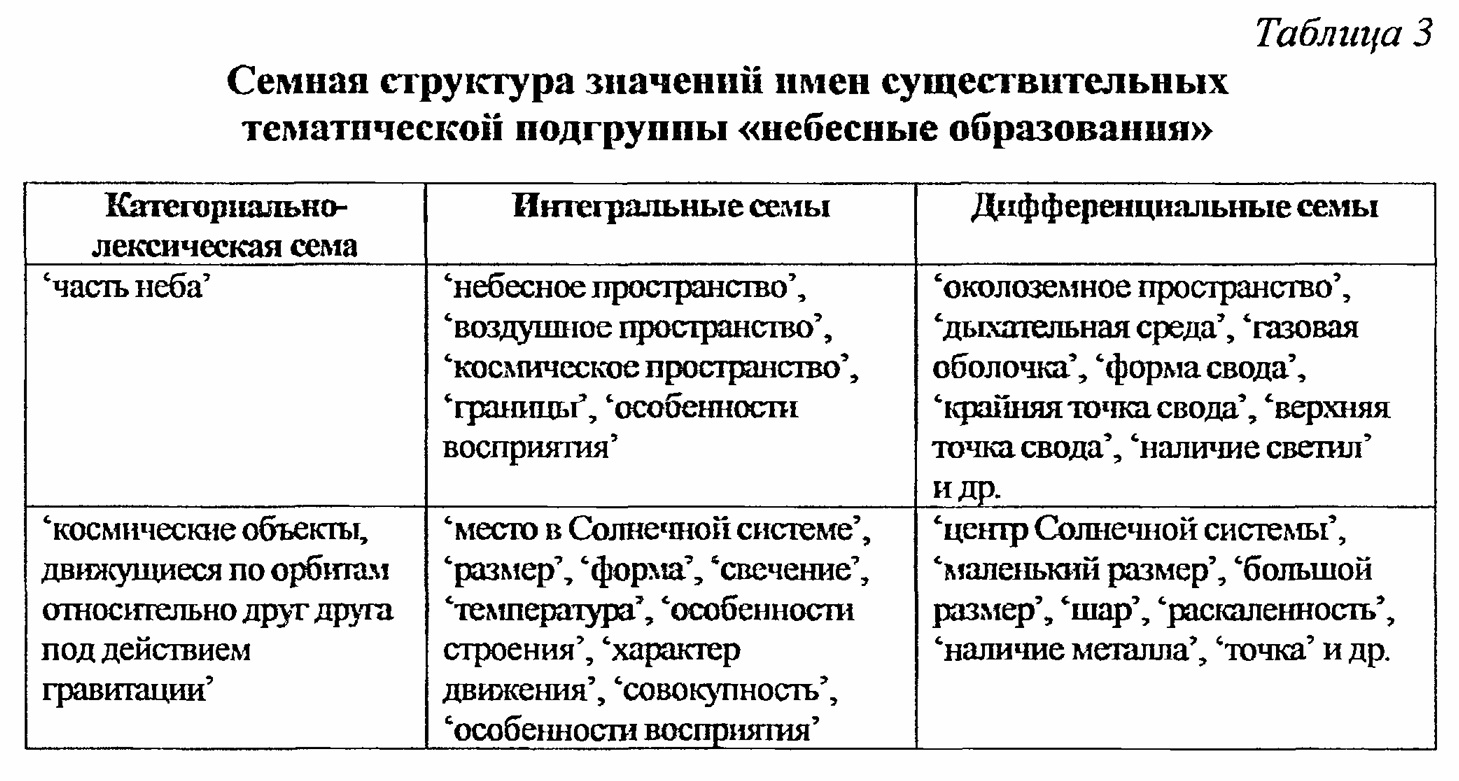
Анализ семной структуры значений данных лексических единиц показывает, что небесные образования, как часть неживой природы, получают в русской языковой картине мира характеристику с точки зрения их структуры, формы, размера, физических свойств. Однако такие черты не всегда оказываются объективными, что обусловлено невозможностью полного постижения человеком стихии воздуха, искажением восприятия некоторых объектов из-за их удаленности от Земли. Данная особенность выражается, например, в существовании двух слов для обозначения одного из спутников Солнца: луна и месяц. Субъективное представление носителей языка о небесном пространстве также отражается в дифференциальной семе ‘кажимость’, выделяемой в значении слов горизонт: «видимая граница (линия кажущегося соприкосновения) неба с земной или водной поверхностью» [БТС, с. 220], звезда: «самосветящееся небесное, сходное по своей природе с Солнцем и видимое на ночном небе как яркая точка» [БТС, с. 359].
2.3.1. Лексико-семантическая группа «часть неба»
В отличие от земного и водного пространств, границы которых определены, в научной литературе выработаны критерии их разграничения, очертания воздушной оболочки ввиду ее сопряженности с небом и космосом представляются расплывчатыми. Несмотря на это, в русском языке существуют субстантивы, обозначающие различные части надземного пространства (атмосфера, воздух, космос, небо, эфир), их границы (горизонт, небосвод, небосклон, поднебесье).
Анализ лексических значений полисемантичных слов воздух — «смесь газов (преимущественно азота и кислорода), из которых состоит атмосфера Земли; дыхательная среда человека, живого организма» [БТС, с. 143]; атмосфера — «об околоземном воздушном пространстве» [БТС, с. 51]; космос — «вселенная, мир, все пространство за пределами земной атмосферы» [РСС, т. I, с. 566] позволяет определить границу между воздушным и космическим пространствами: она проходит там, где заканчивается земная атмосфера, перестает существовать дыхательная среда живых организмов. В языке такая граница обозначается при помощи главного значения существительного небо «видимое вверху над землей пространство в форме свода, купола; небосвод» [СУ, т. II, с. 478]. В этом ЛСВ лексема небо синонимична слову небосвод — «небесный свод, небо» [БТС, с. 613]. Понятие, отраженное данными лексемами, включает в себя представление о частях неба, границах: поднебесье — «небесная высь» [ТСРЯ, с. 669], верхняя точка небесного свода; небосклон — «часть неба над линией горизонта» [БТС, с. 613], крайняя точка небесного свода; горизонт — «видимая граница (линия кажущегося соприкосновения) неба с земной или водной поверхностью; пространство неба над этой границей» [БТС, с. 220], крайняя точка небесного свода.
Дальнейшее рассмотрение иерархической организации обозначений, связанных с надземным пространством, показывает, что атмосфера Земли делится на два уровня: (1) воздух — свободное пространство, простирающееся над землей [БТС, с. 143], (2) небо — видимое над землей воздушное пространство [БТС, с. 612—613]. В свою очередь в понятие космос оказывается включенным окружающее землю сферическое пространство, место кажущегося расположения светил, представление о котором закреплено в оттенке главного значения субстантива небо [СУ, т. II, с. 478].
Схематически данная картина может выглядеть следующим образом (см. рис. 1):
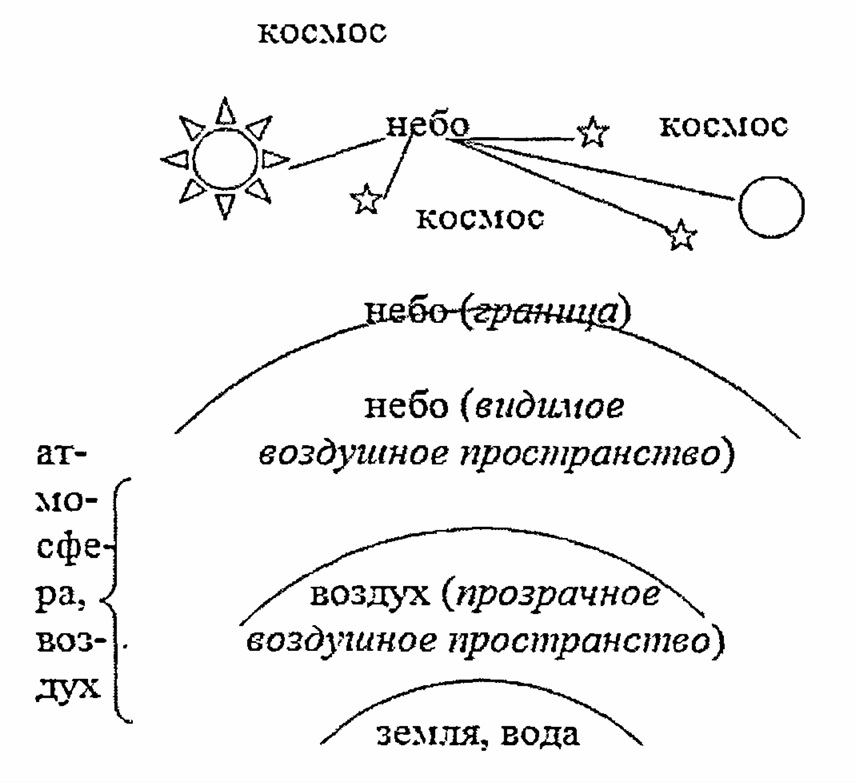
Рис. 1. Воздушное, небесное и космическое пространство в русской языковой картине мира
Существительное атмосфера функционирует в прямом значении, главным образом, в текстах газеты «Волгоградская правда», в которых затрагивается экологическая проблематика: Десятки тысяч тонн вредных веществ ежегодно выделяются в атмосферу, и всем этим «букетом» мы поневоле вынуждены дышать (ВП, 03.06.2003). В таком же контексте выступает слово воздух: Загрязняя воду и воздух, уничтожая флору и фауну, люди тем самым обрекают себя на болезни, сокращают свой собственный век, ставят под вопрос будущее общества (ВП, 06.06.2003). Случаи употребления лексемы атмосфера в текстах иного содержания, посвященных, например, научным исследованиям околоземного пространства, как показывает наш материал, не являются частотными: <…> начальник аэрологической статьи Наталья Урсул запускала в весеннее синее небо (официально — сухо именуемое атмосферой) огромный наполненный водородом шар — зонд (ВП, 22.03.2003). Причина редкого обращения к данному субстантиву — его книжный характер, отсутствие в семантике слова образности, выразительности.
Для обозначения воздушного пространства может использоваться и лексема эфир [ТСРЯ, с. 1130]. Однако на функционирование данного существительного в текстах СМИ накладывает ограничение помета устар. высок.
Существительному воздух свойственно более широкое употребление. Оно используется для обозначения субстанции, которой дышат живые существа: Воздух до того накалился, что было трудно дышать (СП, 18.04.1938), Универсальный весенний рецепт для тех, кто никак не может очухаться от последствий долгой зимы: вдохните полной грудью, как говорят, целебный, лишенный всяческих бактерий весенний воздух (ВП, 17.04.1998), а также надземного пространства, в котором осуществляется перемещение объектов: Общее число самолетов, поднявшихся в воздух, достигло 150 (СП, 07.07.1942), Собираясь в отпуск или в командировку, садясь в вагон или отправляясь в путь по воздуху, мы и не замечаем этих ребят <…> (ВП, 06.09.2003). Наблюдаются случаи обозначения с помощью этого слова среды обитания птиц и зверей: В «воздухе» — дом у иволги. Она высоко над землей подвешивает к веткам высокоствольных деревьев легкую корзиночку, сплетенную из стебельков, волосков и шерстинок (ВП, 04.06.2002). Воздух указывается в ряду факторов воздействия на человека: Чистый, сухой воздух, много солнца благотворно действуют на больных, находящихся здесь на излечении (СП, 21.09.1939), Горячее солнце, свежий воздух, овеянный степными ветрами, прекрасное питание благотворно влияют на здоровье детей (ВП, 19.10.2002).
В процессе функционирования данной лексемы актуализируются с помощью контекстуальных уточнителей потенциальные семы, обозначающие различные физические свойства воздуха как газообразного вещества: ‘температура’: Днем в Сталинграде температура воздуха доходит до 26 градусов (СП, 05.07.1938), Всего три дня из первой декады июня температура воздуха в нашей области была в пределах нормы (ВП, 11.06.2002); ‘распространение звуковых и силовых волн’: Мощный рокот моторов наполняет воздух (СП, 20.08.1938), Мощные удары нашей артиллерии начинают сотрясать землю и воздух, вынуждать противника открыть огонь (ВП, 03.07.1999); ‘передача запахов’: Воздух был напоен ароматами распускающихся тополей (СП, 01.05.1941), Воздух был напоен тонкими ароматами черемухи, боярышника, разнотравья и звенел птичьими трелями, в которых особо выделялось переливчатое соло главного майского певца — российского соловья (ВП, 26.06.2002).
Существительное небо используется в газетной публицистике для обозначения слоев атмосферы, в которых возникают природные явления, связанные с выпадением осадков и излучением, преломлением света: Небо покрыто сплошным слоем облаков (СП, 01.07.1941), А ведь на дворе конец ноября, и с неба сыплет мокрый снег с изморосью… (ВП, 11.12.2003). Восприятие неба как источника атмосферных явлений порождает контексты, в которых номинирующее данное природное образование существительное употребляется в прямом значении, а слово, обозначающее природное явление, — в переносном: 23 августа после обеда все небо заслонили тучи га самолетов (ВП, 26.07.2003). Устойчивая денотативная связь неба с атмосферными явлениями, его значение для человека наряду с землей и водой подтверждаются также при метафоризации данного природного образования: Самочувствие великолепное, кажется само небо улыбалось (СП, 01.05.1941), «Здесь не земля родит, а небо», — процитировал в своем выступлении академика Тулайнова о нашем крае <…> И. П. Круэгсилин (ВП, 29.01.1998), Шел дождь, и, казалось, сама природа и посуровевшее весеннее небо оплакивали павших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, которым в этот знаменательный день открывали памятник (ВП, 28.03.2002).
Для существительного небо характерно также употребление в рамках одного предложения со словом звезда, функционирующим в переносных значениях: В небе появились боевые самолеты, они несут на крыльях пятиконечные красные звезды (СП, 04.05.1938), Но даже на самом темном небе всегда можно найти яркую звезду. Для Волгограда таковой является рейс «Волгоград — Москва» (ВП,13.02.1998). Связь данных субстантивов на денотативном (звезда — небесное тело) и ассоциативном уровне (самой распространенной реакцией на стимул звезда является существительное небо [Русский ассоциативный словарь под ред. Ю. Н. Караулова (далее — РАС), с. 216]), сохранение в тексте словом небо семантики надземного пространства позволяют ярче представить внутреннюю форму лексемы звезда.
Семантика воздушного пространства актуализируется при функционировании существительного небо в контекстах вроде Высоко в небе, на высоте 1200 метров, на буксире самолета показался планер (СП, 20.08.1940). Предпочтение данной лексеме отдается в том случае, если требуется указать на большое расстояние от какого-либо объекта до земного пространства, при этом семантика высоты часто выражается эксплицитно. Кроме того, использование субстантива небо позволяет актуализировать потенциальные семы ‘голубой’ или ‘синий’: В синеве неба показалось звено истребителей (СП, 20.08.1939), <…> на предельной высоте шли самолеты. Передние ряды были уже над нами. Бледно-голубого цвета, они почти сливались с голубым небом (ВП, 19.04.2003). Благодаря этому в публикациях появляется или усиливается образность.
Реализуется в газетных статьях и оттенок значения существительного небо «о воздушном пространстве над какой-л. территорией (обычно как пути сообщения или символе родины, чужбины)» [БТС, с. 613]: Он <корреспондент гамбургской газеты> надеялся прочно обосноваться под ялтинским небом (СП, 21.01.1942), Особые слова благодарности хочется сказать в адрес участника Сталинградской битвы полковника Василия Ивановича Литша, принимавшего участие не только в защите Сталинградского неба от налетов вражеской авиации, но и в уничтожении из зенитных орудий вражеских танков (ВП, 07.04.1999).
В текстах СМИ лексема небо активно употребляется в значении «окружающее землю сферическое пространство, место кажущегося расположения светил»: Высоко в небе сверкают звезды (СП, 03.04.1938), Ночное небо, усыпанное звездами, помнит Сократа, море — Бетховена, золотая осень — Пушкина, дубовая роща — Толстого… (ВП, 15.08.2001).
Для существительных атмосфера, воздух, небо, как показывает проанализированный материал, в основном характерны общие закономерности функционирования в текстах региональных СМИ 1938—1943 гг. и 1998—2003 гг., что свидетельствует об устойчивости представлений носителей языка о реалиях, обозначаемых данными лексемами. Различия отмечаются в тех случаях, когда в смысловой структуре указанных субстантивов возникают коннотативные компоненты значения.
В отличие от слов атмосфера, воздух, небо, лексема космос, обозначающая пространство за пределами земной атмосферы, употребляется в большей степени в публикациях постсоветских газетных изданий, что обусловлено экстралингвистическими причинами причинами. Сферой функционирования существительного космос в СМИ 1998—2003 гг. являются тексты, в которых рассказывается о достижениях человечества, характерных для послевоенного периода: Грандиозным событием прошедшего столетия был и навсегда останется первый полет человека в космос (ВП, 12.04.2003), Наш завод специализируется на выпуске кольцевой продукции для авиации и космоса (ВП, 17.12.2002).
В текстах региональных газет 1938—1943 гг. и 1998—2003 гг. отмечаются случаи переносного употребления существительных, обозначающих воздушное, небесное и космическое пространство.
Лексема атмосфера может употребляться в значении «условия, обстановка, психологический настрой где-л.» [БТС, с. 51]. При этом в ее смысловой структуре актуализируются компоненты, позволяющие охарактеризовать обозначаемые данным субстантивом условия как неблагоприятные: Один коммерсант, недавно прибывший из Берлина, сообщает, что там царит мрачная атмосфера (СП, 14.01.1942), Но и это в условиях ужасающей эксплоатации крестьян со стороны крепостников-помещиков, в удушающей атмосфере царского самодержавия имело прогрессивное значение (СП, 16.01.1942), В накалившейся психологической атмосфере такая реакция организма — вполне объяснимое явление (ВП, 06.02.1998); вызывающие теплые чувства, поднимающие настроение: Праздничная предновогодняя атмосфера царит в негласной столице российской глубинки — городе Урюпинске (ВП, 26.12.2002); соответствующие определенной ситуации: Создается атмосфера, при которой немыслимо уклониться от работы (СП, 03.04.1940), В конструктивной, деловой атмосфере были обсуждены итоги совместной деятельности в 1999 году и намечены перспективы сотрудничества (ВП, 22.02.2000), Но этот нюанс не был определяющим в атмосфере слушания (ВП, 22.04.2000). Из приведенных выше примеров видно, что в публикациях 1938—1943 гг. отрицательная коннотация появляется у слова атмосфера при характеристике царской эпохи и обстановки за рубежом, а в газетных текстах 1998—2003 гг. — при описании душевного и физического состояния человека. Однако случаев употребления данного существительного для передачи положительных эмоций в проанализированном массиве фактов намного больше.
В значении «условия, обстановка, психологический настрой где-л.» может функционировать и лексема воздух, но, в отличие от существительного атмосфера, оно реализуется лишь в смысловой структуре слова: Грим, костюмы, обстановка и даже пейзажи — все исторически колоритно, все дышит воздухом этой эпохи героической борьбы нашего народа (СП, 26.14.1941), Все мы помним, как победоносно начинала свой путь свободная российская пресса, как журналисты буквально захлебывались от свежего воздуха перемен <… > (ВП, 13.01.2001), Здесь <в Волгограде> я чувствую себя словно заново родившимся и с каждым приездом в ваш город с наслаждением вдыхаю чистый не только экологически, но и духовно-нравственный воздух (ВП, 05.07.2001). Характерной особенностью функционирования субстантива в данном значении является сохранение связи с главным ЛСВ. В первом и во втором предложениях эта связь поддерживается при помощи контекстуальных уточнителей: глаголов дышать, захлебываться, обозначающих процесс дыхания, прилагательного свежий, указывающего на одно из свойств воздуха. В третьем примере апелляция к главному значению содержится в словах, обозначающих отсутствие в газовой оболочке земли вредных веществ. Данным свойством обладает и лексема атмосфера: Дима никогда ничего не делал напоказ. Он просто был порядочным по сути. И оттого его влияние на окружающих было действенным, незабываемым. Атмосфера вокруг Димы очищалась! (ВП, 26.12.2003). Прояснению внутренней формы, актуализации мотивационных связей между главным и переносным значениями способствует сохранение при реализации ЛСВ «условия, обстановка, психологический настрой где-л.» синтагматических особенностей, которые реализуются при функционировании существительного атмосфера в прямом значении.
В семантической структуре субстантива небо также выделяется ЛСВ, не связанный со значением «природные образования»: «по религиозным представлениям: место, пространство, где обитают Бог, ангелы, святые и где находится рай / о Провидении, божественных силах» [БТС, с. 613]: Посмотрите на небо. Там наш с вами любимый поэт, там его светлая звезда (ВП, 08.06.1999), Говорят, чистая детская мольба мгновенно доходит до небес (ВП, 09.08.2001). Для советских СМИ употребление слова небо в данном значении неприемлемо, поскольку признание существования внеземной жизни противоречило бы социалистической идеологии. Если же в текстах того периода анализируемый субстантив все-таки употреблялся в указанном ЛСВ, то обозначаемое им явление получало негативную окраску: Но вы, товарищи, согласитесь, что дело, конечно, не в какой-то «счастливой звезде» и совсем не в помощи небес большевикам <… > (СП, 10.11.1939).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что природные образования, именуемые существительными ЛСГ «часть неба», воспринимаются носителями языка как среда, в которой созданы необходимые для их жизни условия, возникают атмосферные и оптические явления, что находит отражение как в прямых, так и в переносных значениях данных слов.
2.3.2. Лекспко-семантическая группа «небесные тела»
Существительные ЛСГ «небесные тела» обозначают космические объекты, движущиеся по орбитам относительно друг друга под действием гравитации, а также их систему. Следующие интегральные признаки, представленные в структуре значений данных слов, позволяют различать номинируемые ими образования: ‘место в Солнечной системе’ (астероид, звезда, комета, луна, месяц, солнце), ‘размер‘ (астероид, планета), ‘форма’ (планета, полумесяц, солнце), ‘свечение’ (звезда, комета, луна, месяц, светило, солнце), ‘температура’ (звезда, солнце), ‘особенности строения’ (звезда, метеорит), ‘характер движения’ (спутник), ‘совокупность’ (галактика, созвездие), ‘особенности восприятия’ (звезда, месяц).
В значении «небесное тело» субстантивы данной ЛСГ употребляются в основном либо для создания картины природы: Февраль на дворе. Пушистые снеэкмнки. Солнце мельком глянет и спрячется в тучи (СП, 10.02.1939), На стылом февральском закате тусклое солнце опять запутается в промерзших ветках тополей (ВП, 14.02.1998), либо в текстах, в которых рассказывается об исследованиях космического пространства: Исследования атмосфер планет, веществ астероидов, комет, позволяют глубже понять npoцессы в земной атмосфере, что имеет первостепенное значение для метеорологии (ВП, 12.04.2003), о явлениях, происходящих с космическими объектами: Так что приходится признать, что упавшее космическое тело — не что иное, как комета (ВП, 11.09.2003), В темную августовскую ночь можно наблюдать обилие падающих звезд (ВП, 04.08.1999).
Особенностью слов ЛСГ «небесные тела» является то, что они обозначают природные объекты, сущность которых человек не может познать полностью, поскольку он наблюдает за ними только на расстоянии. Удаленность, недосягаемость космических объектов, отсутствие исчерпывающих знаний о них порождают различные суеверия, что также находит отражение в текстах СМИ: А наиболее ярые прорицатели предвещали даже конец света с момента, когда Луна полностью закроет дневное светило. Но, как видим, все обошлось (ВП, 12.08.1999). Данная особенность характерна только для постсоветских газет, так как упоминание о каких-либо суевериях в текстах советского периода расценивалось бы как проявление инакомыслия.
Самую широкую сферу употребления имеют существительные, обозначающие небесные тела, с которыми связана жизнь человека. К ним относятся солнце, луна, планета.
Лексема планета может употребляться в значении «земля (как небесное тело и населяющие его люди)» [БТС, с. 837]: <…> руководящей мыслью Советского Союза является мир в Европе и на всей нашей планете (СП 09.10.1939), Произведения волжанина публикуются ведущими шахматными журналами планеты и приносят успех в российских и международных конкурсах (ВП, 09.07.2003), Технический прогресс, коим обуяно человечество, рано или поздно погубит нашу планету… (ВП, 23.01.1998). Предпочтение данному существительному отдается в тех случаях, когда требуется передать масштабность каких-либо событий, значимость предметов и явлений действительности, обратить внимание на проблемы глобального характера.
В процессе функционирования существительного луна актуализируется интегральная сема ‘свечение’. Обозначаемый им природный объект как источник света получает различную оценку в зависимости от ситуации. Так, в тексте о том, как в колхозе убирали урожай в темное время суток, говорится, что луна оказалась хорошим помощником (СП, 30.07.1942). Однако света луны оказывается недостаточно, чтобы заниматься спортом на воздухе: Конькобежцев и хоккеистов «Медика» ожидает перспектива заниматься на стадионе только при луне (СП, 20.11.1938).
Значение солнца в жизни людей выявляется в разного рода контекстах. Встречаются, например, предложения, в которых говорится о том, что по его положению на небе определяют время событий: Еще солнце не село за горизонт, когда боевые самолеты стали один за другим подниматься в воздух (СП, 07.01.1943). В данном случае семантика времени выражается путем соотнесения процессов, происходящих в природе, и военных событий, о которых говорится в придаточном предложении, присоединяемом к главному при помощи союза когда.
Обозначаемый лексемой солнце космический объект может получать положительную оценку, так как он является источником света, тепла, придает яркость окружающим предметам, создает праздничную атмосферу: На широких кумачевых полотнищах под лучами солнца горели великие слова большевистских лозунгов (СП, 02.07.1938).
Отрицательная коннотация появляется в смысловой структуре анализируемого слова, когда обозначаемое им природное образование создает дискомфорт: День был жаркий. И когда перед вечером сиреневая туча закрыла солнце, — все облегченно вздохнули (СП, 30.06.1939), На остановке «ВгТЗ» пожилым людям даже присесть негде, невозможно укрыться от прямых лучей солнца (ВП, 19.04.2000); способствует стихийным бедствиям: Степной пожар быстро двигался по сухой, выжженной солнцем траве (ВП, 10.11.2000).
Существительное солнце можно рассматривать в составе ЛСГ «оптические явления» и «погода» тематической подгруппы «природные явления», так как в его семантической структуре выделяется значение «свет, тепло, излучаемые этим телом <солнцем>, место, освещенное им» [БТС, с. 1233]. В текстах СМИ данный ЛСВ используется, главным образом, для характеристики климатических особенностей Нижневолжского региона: Миновало время распутицы в южных районах страны, щедрое солнце обновляет дороги на северных участках (СП, 11.05.1943), То город заливается ярким солнцем, то опускается густой туман <…> (ВП, 06.10.1998), Нижнее Поволжье — регион с очень активным солнцем (ВП, 09.07.2003). Контекстуальный уточнитель яркий позволяет сделать акцент на интенсивности излучаемого солнцем света, а прилагательные активный, щедрый указывают на высокую температуру воздуха, который прогревается солнцем.
Несмотря на то, что в некоторых контекстах солнце получает отрицательную оценку, в целом это природное образование воспринимается носителями языка как жизненно важный объект. Значимость солнца для человека закрепилась не только в значениях, определяющих принадлежность данного слова к ТГ «неживая природа», но и в ЛСВ «о том, что является источником жизни, счастья и т. п. для кого-, чего-л. // о том, кто является предметом поклонения, кто прославился в какой-л. области деятельности» [БТС, с. 1233]: Солнце коммунизма, взошедшее над нашей родиной, освегцает и будет освещать наису эюизнь (СП, 04.07.1938), Для них наступила радостная, счастливая жизнь под солнцем Сталинской Конституции (СП, 05.11.1939).
Положительная коннотация отражается и в переносных значениях лексемы звезда «символическое обозначение судьбы» [БТС, с. 359]: Надо мной горит счастливая звезда, которая и ведет меня по оюизни (ВП, 14.01.2003); «о знаменитом человеке» [БТС, с. 359]: Сколько денег тратят некоторые добровольные общества на «перекупку» и «переманивание» спортивных «звезд» <…>! (СП, 21.07.1940), Город взлелеял и взрастил свои спортивные звезды (ВП, 15.10.2003). В публикациях «Сталинградской правды» случаи функционирования существительного звезда в значении «о знаменитом человеке» единичны. В текстах газеты «Волгоградская правда», напротив, наблюдается активное использование этой лексической единицы с указанной семантикой, а также расширение синтагматических связей слова, например: концерт с участием «звезд» волгоградских и московских (ВП, 23.06.1998), звезда русского балета (ВП, 01.04.2000), эстрадная звезда (ВП, 06.05.2000), звезда экрана (ВП, 03.03.2001), звезды науки (ВП, 13.09.2003) и др.
Синонимичное значение содержится в семантической структуре лексемы светило («человек, прославившийся в какой-л. сфере деятельности; знаменитость» [БТС, с. 1157]): Два года он совмещал визиты к светилам медицины с тренировками в бассейне (ВП, 15.11.2000). При этом слово звезда используется в основном для характеристики известных артистов, спортсменов и политиков, а существительное светило употребляется по отношению к врачам, ученым.
Основанием для переноса может служить не только способность некоторых небесных тел излучать свет, выделяться в космосе на фоне других, но и их форма. Такой механизм метафорического переноса был использован при образовании ЛСВ «геометрическая фигура с остроконечными выступами, равномерно расположенными по окружности; фигура с лучами, исходящими от центра // предмет, внешние очертания которого воспроизводят такую фигуру // знак отличия, орден, имеющий такую форму» [БТС, с. 359]: Пусть кремлевские звезды еще ярче горят над нашей могучей, непобедимой родиной! (СП, 29.05.1938), А я больше сорока лет на профессиональной эстраде, и, если бы в свое время раздавали звезды, уже б давно их иипук пять получил (ВП, 04.04.2003).
При образовании значений также возможен перенос по сходству движения. Так возник ЛСВ «космический аппарат, который с помощью ракетных устройств запускается на орбиту вокруг небесного тела» [БТС, с. 1254] существительного спутник: 45 лет назад в СССР был осуществлен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли (ВП, 04.10.2002).
Для существительных тематической подгруппы «небесные образования» характерно употребление в текстах региональных СМИ в контекстуальных, не зафиксированных словарями значениях. При этом основным признаком, который актуализируется при образовании таких значений, является интегральная сема ‘свечение’: О начале его <народного гуляния> возвестили скользнувише в голубую высь кометы дневных фейерверков (СП, 01.08.1938) (в сочетании с интегральной семой ‘форма’), Сутками напролет при свете фронтового «светила» — фитиля, вставленного в стакан от снаряда (окна были плотно забиты досками), мы ремонтировали старый двухцилиндровый мотор, найденный во дворе станции (СП, 08.10.1943) (в сочетании с семой ‘источник света’), Никогда еще не горела так ярко, как ныне, звезда социализма (СП, 01.05.1939) (вероятно, по аналогии с ЛСВ «о том, что является источником жизни, счастья и т. п. для кого-, чего-л.» слова солнце).
Среди других признаков, свойственных небесным телам, при образовании контекстуальных значений оказываются релевантными ‘обособленность от окружающих объектов, специфическая атмосфера’: И для нашей маленькой «планеты Волгоград» мэрские выборы, пожалуй, поважнее президентских будут (ВП, 11.09.2003); ‘влияние на жизнь человека’, ‘ценность’: Ведь многие из них <тружеников ООО «Нижневолжскбурнефть»> несут сейчас трудную вахту вдали от дома, сантиметр за сантиметром пробиваясь буром в глубь земных недр — туда, где спрятано черное солнце (ВП, 30.08.2001).
В процессе функционирования слов ЛСГ «небесные тела» может происходить расширение объема словарных значений. Такая особенность характерна для ЛСВ «группа выдающихся деятелей одной эпохи, объединенных общностью взглядов, целей и т. п.; соединение знаменитостей» [БТС, с. 1230] субстантива созвездие: Да здравствует сталинское созвездие братских Советских Социалистических Республик (СП, 04.01.1939), Ну-ка, назовите мне другую строительную организацию, у которой в послужном списке такие объекты, как крупнейшая в Европе гидроэлектростанция да еще в придачу целое созвездие самых мощных в области теплоэлектроцентралей (ВП, 25.12.2002). В приведенных примерах реализуется способность данного существительного обозначать совокупность не только одушевленных, но и неодушевленных предметов.
Таким образом, для репрезентации русской языковой картины мира используется в основном семантический потенциал тех субстантивов ЛСГ «небесные тела», которые в прямом и переносном значениях содержат семы ‘яркий свет’и’высокая температура’.
Выводы по главе
Для репрезентации русской языковой картины мира в текстах региональных печатных СМИ существительные тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования» используются как в прямых, так и в переносных значениях.
Субстантивы тематической подгруппы «земные образования» употребляются в публикациях газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» для наименования равнинных участков, небольших возвышенностей и углублений, ископаемых, характерных для Нижнего Поволжья и имеющих практическую ценность для человека, благодаря чему реализуется способность данных имен служить средством отражения языковой картины мира жителей региона.
Среди субстантивов тематической подгруппы «водные образования» как средства репрезентации языковой картины мира основное место занимают слова лексико-семантической группы «водные пространства» и «водные потоки», обозначающие в текстах региональных СМИ важные для носителей языка природные объекты.
При реализации значений «земные образования» и «водные образования» релевантными для выражения особенностей восприятия человеком объектов неживой природы оказываются дифференциальные / потенциальные семы ‘пригодность / непригодность для практического применения’, ‘природные богатства’, ‘опасность’, ‘неизведанность’, ‘свое / чужое’.
В смысловой структуре субстантивов, реализующих в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» значение «небесные образования», отражено восприятие носителями языка небесного пространства как среды, в которой возникают атмосферные и оптические явления, созданы необходимые для жизни людей условия. В газетных публикациях также актуализируются семы, характеризующие небесные образования с точки зрения их структуры, формы, размеров, физических свойств и в то же время указывающие на то, что такие черты не всегда оказываются объективными, поскольку у носителя языка искажается представление о некоторых объектах из-за удаленности их от Земли, невозможности полного постижения человеком стихии воздуха.
Результаты сопоставительного анализа особенностей употребления в переносных значениях существительных тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования» позволяют определить различия функционально-семантических свойств данных имен, выявить специфику репрезентации русской языковой картины мира в разновременных текстах региональных печатных СМИ.
В изданиях советского периода ведущую роль в отражении представлений человека о действительности играют слова, для значений которых исходными являются лексико-семантические варианты субстантивов тематической подгруппы «земные образования» (68,6% из 100%). Семантический потенциал этих имен служит, главным образом, средством характеристики уровня развития экономики Нижнего Поволжья и других регионов, обозначения объектов сельского хозяйства, промышленности (32,8%). Существительные тематической подгруппы «водные образования» употребляются прежде всего для описания условий и образа жизни советского народа, а также событий, происходивших за рубежом (соответственно 10,3% и 5,8% из 23,2%). Субстантивы тематической подгруппы «небесные образования» реализуют потенциал переносных значений для выражения социалистической идеологии, символов советской эпохи, что способствует формированию у людей представлений о политике советского государства (4,8% из 8,2%).
В публикациях постсоветского периода по-прежнему значимым остается переносное употребление существительных тематической подгруппы «земные образования» (59,8% из 100%). Однако семантический потенциал данных имен реализуется при изображении не только экономической (24,2%), но и социальной (27,5%) сферы деятельности общества, что позволяет подчеркнуть статус человека, описать условия, в которых он живет, показать демократические преобразования, состояние культуры, науки, спорта и т. д. Для обозначения реалий и интерпретации процессов, относящихся к экономической и социальной областям, актуально также использование существительных тематической подгруппы «водные образования» (соответственно 8,8% и 15,4% из 26,4%): с помощью названных лексем дается характеристика уровня духовного развития людей, их деятельности. У субстантивов тематической подгруппы «небесные образования» самая высокая частотность употребления отмечается при реализации ими функции номинации и характеризации социальных субъектов, условий и явлений (11,8% из 13,8%).
По сравнению с региональной прессой 1938—1943 гг. в газетах за 1998—2003 гг. значительно увеличивается употребительность существительных тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования» в переносных значениях в контекстах, содержание которых связано с социальной сферой деятельности человека (24,2% — СП; 54,7% — ВП), уменьшается использование данных субстантивов в идеологически ориентированных высказываниях (18,9% — СП; 6,5% — ВП) и при описании военных событий (7,7% — СП; 1,7% — ВП).
В выражении представлений носителей языка об окружающей действительности при помощи переносных значений принимают участие существительные всех лексико-семантических групп, которые входят в состав тематической подгруппы «земные образования». При этом ведущая роль принадлежит субстантивам, в смысловой структуре которых актуализируются семы ‘большая высота’, ‘высокая часть’, ‘небольшой размер’, ‘определенное направление’, ‘препятствие / опасность’, ‘неизведанность’, ‘большая ценность’.
У имен тематической подгруппы «водные образования» для репрезентации русской языковой картины мира реализуется в основном семантический потенциал переносных значений существительных лексико-семантических групп «водные потоки» и «водные пространства», что проявляется в процессе актуализации сем ‘большое пространство’, ‘большая масса’, ‘высокая скорость’, ‘начало’, ‘определенное направление’, ‘большая ценность’.
Семы ‘яркий свет’ и ‘высокая температура’, выделяемые в структуре переносных значений субстантивов лексико-семантической группы «небесные тела» тематической подгруппы «небесные образования», являются доминирующими при отражении в языке представлений человека о действительности. Значимость существительных лексико-семантической группы «часть неба» для репрезентации русской языковой картины мира определяется их способностью описывать условия жизни людей, при этом данные лексемы могут иметь положительную или отрицательную оценочную окраску.
ГЛАВА 3. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ГАЗЕТАХ «СТАЛИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» И «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА»
Вводные замечания
Глава посвящена анализу существительных тематической подгруппы «природные явления», выявлению свойств, определяющих роль данных субстантивов в репрезентации русской языковой картины мира в региональных печатных СМИ советского и постсоветского периодов.
3.1. Имена существительные тематической подгруппы «природные явления»
Помимо субстантивов, называющих природные образования, к ТГ «неживая природа» относятся лексемы, которые обозначают явления природы.
Главная особенность большинства существительных с семантикой природных явлений состоит в том, что они имеют предметно-процессное значение. Ядро их семной структуры «представляет собой синтез двух сем: семы «предметность» (субстанциональной, лексической семы) и семы «действие» (несубстанциональной, абстрактной семы)» [Вакарюк, 1985, с. 50].
Природные явления связаны прежде всего с процессами, происходящими в природе: движением воздушных и водных масс, выпадением осадков, действием сил природы, на которые трудно повлиять. Как явление следует рассматривать наличие / отсутствие света и звуков в природе, так как они также обусловлены определенными процессами: оптические связаны с излучением, преломлением, отражением света, а звуковые — с колебательными движениями частиц воздуха.
В значениях субстантивов тематической подгруппы «природные явления» (табл. 4) семантика процессуальное™ представлена признаками ‘движение’, ‘интенсивность’, ‘темпоральность’, ‘изменчивость’, ‘направление’. Значение предметности закреплено в семной структуре при помощи компонентов ‘форма’, ‘температура’, ‘цвет’, ‘размер’, ‘количество’, ‘влажность’.
В качестве общих обозначений природных явлений выступают лексемы свет, темнота, тьма, звук, тишина, тишь, ветер, осадки, стихия, погода, климат.
Гиперонимами существительных ЛСГ «оптические явления» служат слова свет («лучистая энергия, делающая мир видимым» [ТСРЯ, с. 861]) и темнота, тьма («оптические явления, нарушающие видимость; отсутствие света, освещения» [БТСРС, с. 116]). Выделение данных гиперонимов позволяет объединить в составе ЛСГ субстантивы, обозначающие оптические явления, которые отличаются друг от друга степенью способности делать мир видимым.
Ключевыми компонентами как структуры значения, так и смысловой структуры слова свет являются интегральные семы ‘лучистая энергия’ и. ‘видимость’. Они актуализируются при наличии контекстуальных уточнителей, которые обозначают степень яркости: <…> мы смотрели на восток, откуда всходило яркое солнце (СП, 20.09.1939); источник света: Звезды мерцают, как поминальные свечи. Свет от них будет литься на Землю долго… (ВП, 05.02.2003). Во втором предложении содержится характеристика света не только как субстанции, но и как процесса, на что указывает глагол литься: «испускаясь чём-л., распространяться, струиться (о звуке, свете, запахе)» [БТС, с. 500].
В переносном значении «источник освещения и приспособление для освещения в домах и на улицах» [БТС, с. 1157] рассматриваемое существительное употребляется, если вместо естественных природных
источников света указываются искусственные: <…> свет прожекторов почти полностью исчез (СП, 04.02.1942), Вскоре во всех квартирах второго этажа дома разом погас свет, затем прекратилась подача тепла и воды (ВП, 09.10.2003).
ЛСВ «символ истины, разума, просвещения или радости, счастья» [БТС, с. 1157] реализуется данным субстантивом при его использовании в контекстах, в которых идет речь о духовных ценностях, изменении мира в лучшую сторону: Каждый из нас может улучшить мир, наполнив его добром, теплом и светом (ВП, 29.11.2002).
Лексема свет также способна передавать внутреннее состояние человека: На меня смотрела прекрасная, лишенная возраста женщина с большими янтарными глазами, излучавшими тихий ровный свет (ВП, 15.08.2003). В приведенном примере данное существительное употребляется в значении «блеск глаз под влиянием какого-л. чувства» [БТС, с. 1157] для того, чтобы акцентировать внимание реципиента на таких качествах, как спокойствие, духовная стойкость.
Проанализированный материал показывает, что в текстах постсоветских региональных СМИ субстантив свет употребляется в значении «источник освещения и приспособление для освещения в домах и на улицах» [БТС, с. 1157] для выражения негативного отношения к жизни в столице: Москва русская, азиатская, европейская. Пестрым плотоядным светом мерцают фасады казино и клубов; подавляют прохожих роскошь лимузинов, влажное черное свечение «Мерседесов», бесчисленный поток шикарных машин (ВП, 23.10.2003). Для СМИ середины XX в. такая особенность не характерна, так как Москва, будучи аксиологической точкой отсчета для советской идеологической языковой картины мира [Шкайдерова, 2007, с. 170], не может получать отрицательную оценку.
Если слово свет выражает отрицательную оценку только в единичных случаях, то в смысловой структуре его антонимов, существительных тьма, темнота, отрицательная коннотация встречается чаще: Окутавшая землю темнота и овраги затрудняли маневр танков (СП, 28.03.1943), Много хлопот доставляют рыбаки, которые беззаботно бросают якорь возле самого судового хода ночью, даже не потрудившись вывесить сигнальный фонарь. Движущиеся в темноте многотонные грузовые суда не видят их и попросту «перемалывают» рыбацкие лодки (ВП, 06.07.2002). Контекстуальные уточнители окутавшая, затрудняли, много хлопот, не видят, перемалывают способствуют актуализации в смысловой структуре слова темнота потенциальных сем ‘создание препятствий’, ‘опасность для жизни’.
Негативная оценка содержится и в переносных значениях. Наиболее ярко эта особенность проявляется при функционировании данных слов в текстах, основной задачей которых является противопоставление тьмы свету. Существуют, сменяют друг друга и переплетаются два начала, два понятия: война и мир, тьма уничтожения и ток жизни. <…> Что же касается русского человека, то даже в самые тяжелые периоды национальной истории не исчезает в нем свет здоровой народности, какой- то корневой чистоты (ВП, 26.08.2003). В приведенном примере тьма ассоциируется со смертью, войной, а свет — с жизнью, духовным началом, нравственной силой. В статьях газеты «Сталинградская правда» гиперонимы ЛСГ «оптические явления» используются в функции противопоставления коммунизма дореволюционной жизни страны: если социалистическое государство излучает свет Сталинской Конституции (СП, 01.08.1938), то царизм держит массы в темноте (СП, 24.05.1938). Слово темнота в последнем предложении употребляется в значении «невежество, отсталость» [СУ, т. IV, с. 675-676], отражающем один из фрагментов жизни общества старого типа.
Гиперонимами единиц ЛСГ «звуковые явления» являются субстантивы звук и тишина, тишь.
Лексема звук обозначает то, что слышится, воспринимается слухом: физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или другой среды [ТСРЯ, с. 274]. В семной структуре данного слова отражена возможность его использования для наименования различного рода явлений, происходящих не только в неживой природе, но и в других средах. Если данное существительное служит наименованием природного явления, то в качестве источников звука выступают соответствующие объекты: А в лесу листья шелестят, будто о чем-то шепчутся. Ветерок поет в вершинах деревьев. Ручьи журчат. Сколько звуков! Сколько жизни! (ВП, 23.01.2003). В предложении указывается на то, что в природе ими могут быть ветер и ручьи. В процессе функционирования субстантива звук в текстах другой тематики, не природной, контекстуальные уточнители указывают на иные источники звуковых явлений. К ним относятся, в частности, человек: В толпе никто не проронил ни звука (СП, 14.02.1943); животные: В ушах еще держался резкий звук от хлопка большим хвостом по воде (ВП, 05.12.2001), сирена: Вода далеко, далеко уносит густой звук сирен (СП, 11.05.1938).
Общим обозначением отсутствия звука являются лексемы тишина, тишь — «отсутствие шума, безмолвие, молчание» [РСС, т. III, с. 147]. Как и лексема звук, существительные тишина и тишь служат наименованием явлений, происходящих в различных сферах действительности. Разграничению таких явлений способствует контекст: В напряженной тишине с исключительным вниманием присутствующие прослушали доклад инженера тов. А. А. Шварца (СП, 26.06.1941), Ясный день. Солнышко греет. Потревоженная моим прибытием полуденная тишь снова сомкнулась, словно тихая вода: поплескались волнешки и успокоились (ВП, 03.06.2000). В приведенных примерах контекстуальные уточнители описывают ситуацию, в которой отсутствует звук: в природе — ясная безветренная погода, невмешательство человека, в помещении в процессе получения важной информации — молчание слушателей, их заинтересованность.
Слово осадки в значении «атмосферная влага, выпадающая на землю в виде дождя, снега, росы и т. п.» [БТС, с. 727] является гиперонимом существительных ЛСГ «атмосферные осадки». Способность служить обозначением для различных видов выпадающей на землю атмосферной влаги обусловливает специфику функционирования данного субстантива: в его смысловой структуре актуализируются наиболее общие признаки называемого им явления. К ним относятся интегральные семы ‘частотность выпадения’, ‘количество’: По данным бюро погоды, сегодня в Сталинграде будет пасмурно, с небольшими осадками (СП, 08.02.1939), Более того, за полтора месяца выпала трехмесячная норма осадков! (ВП, 04.08.2003), ‘наличие / отсутствие’: <…> сегодня ожидается меняющаяся облачность без осадков (СП, 21.04.1938), Сегодня днем по области и в Волгограде ожидается малооблачная погода, без осадков (ВП, 20.07.2001).
Особенности семантики существительного осадки также заключаются в том, что оно может обозначать не только процесс выпадения влаги, но и результат этого процесса [Урысон, 2005, с. 102]: В ночь на 24 мая в Владимировском и Харабалинском районах выпало осадков от 5 до 9 миллиметров, в Наримановском — 22 (СП, 26.05.1938), В первой декаде августа прошел первый дождь. Но и он не принес особой радости — всего одиннадцать миллиметров осадков. Верхний слой почвы на 15 сантиметров остался сухим (ВП, 16.09.1998). Данные предложения показывают, что в подобных случаях актуализируются интегральные признаки, которые характерны для веществ, предметов: ‘толщина’, ‘мера влажности’.
Предметно-процессное значение также свойственно лексеме ветер в значении «движение потока воздуха в горизонтальном направлении» [БТС, с. 122] — гиперониму существительных одноименной ЛСГ. В структуре ее значения семантика предметности представлена компонентом ‘воздух’, а процессуальности — семами ‘движение’, ‘поток’, ‘направление’. Статус гиперонима субстантив ветер приобретает благодаря отсутствию в его значении компонентов, позволяющих выделить в называемом им природном явлении различные признаки.
Вышеназванные особенности семантики существительного ветер обусловливают его широкие синтагматические возможности и высокую частотность употребления. В процессе функционирования у данного субстантива могут актуализироваться признаки, характерные для значений его гипонимов. Например, в атрибутивных сочетаниях типа шквалистый ветер (СП, 25.03.1941), шквальный ветер (ВП, 04.01.2001), порывистый ветер (ВП, 13.07.1999), зависимыми словами в которых выступают прилагательные, образованные от существительных ЛСГ «ветер», в его смысловой структуре актуализируются дифференциальные семы ‘внезапное появление’, ‘внезапное усиление’, ‘высокая степень интенсивности’.
Следует отметить, что в процессе функционирования существительного ветер в качестве контекстуальных уточнителей используются в основном слова, конкретизирующие сему ‘действие’. В их смысловой структуре выделяются, в частности, дифференциальные признаки ‘направление движения’: южный ветер (СП, 03.04.1938), таманский ветер (ВП, 04.01.2001); ‘сила действия’: слабый ветер (СП, 06.04.1941), при сильном ветре (ВП, 25.09.1998), ураганный ветер (ВП, 23.09.1998); ‘изменение направления’: ветер повернул в сторону (ВП, 02.07.1998); ‘изменение силы, скорости’: Ветер бушует еще сильнее (СП, 21.03.1941), ожидается усиление ветра (ВП, 04.02.2003); ‘перенесение, перемещение чего-л.’: горячие песчаные ветры (СП, 01.05.1941), Грозовое облако ветер гонит! (ВП, 02.07.2003); ‘стихия’: Стихия бесчинствовала: ветер крушил балконные рамы, срывал обшивку крыш, ломал и вырывал с корнем, деревья (ВП, 21.06.2000).
Конкретизация субстантивного значения лексемы ветер осуществляется при помощи контекстуальных уточнителей, характеризующих состояние воздуха. В этом случае в смысловой структуре актуализируются интегральные семы ‘температура’: холодный ветер (СП, 16.03.1943), горячий ветер (ВП, 17.07.2001) и ‘влажность’: свежий ветер (СП, 11.05.1938; ВП, 20.08.1998).
Будучи одним из самых распространенных природных явлений Волгоградской области, ветер получает в текстах региональных СМИ многоаспектную характеристику, что отражается в смысловой структуре существительного. При этом контекстуальные уточнители актуализируют как значение предмета, так и значение действия: Первое, что приходит на память при слове «Сталинград», это безжалостное солнце, горячий ветер, дующий сразу со всех сторон, и завитки желтого песка на улицах и площадях (ВП, 17.07.2001). В данном предложении прилагательное горячий характеризует ветер как предмет, указывая на одно из его свойств — температуру. Семантика действия выражается при помощи причастия дующий (‘действие’), словосочетаний со всех сторон (‘направление действия’) и завитки песка (‘результат действия’). Совмещение семантики предмета и процесса отмечается также в предложении Сейчас декабрь, ледяной ветер гуляет по степным просторам, начинается пора вьюг, метелей (СП, 22.12.1940).
Актуализация предметно-процессной семантики существительного ветер появляется и в контекстах, в которых при помощи данной лексемы характеризуются не только состояния природы, но и обстановка на улицах города, в помещениях: По бараку гулял зимний пронизывающий ветер (СП, 08.03.1941), Ветер метет по пустым торговым рядам оберточную бумагу да пожухлую листву (ВП, 20.10.1998), А ветер гуляет по комнатам, крыша течет, ночи стали прохладными, заморозки обещают (ВП, 03.06.2003). Описание движения ветра при помощи глаголов гулять «быть в движении, перемещаться в разных направлениях, распространяться (обычно на широком, свободном пространстве)» [БТС, с. 234] и мести «сильным дуновением нести, гнать, переносить с места на место» [БТС, с. 535], характеристика локального пространства и условий, в которых осуществляется движение, позволяют передать ощущение опустошенности, дискомфорта, холода.
В большинстве случаев и в прямом, и в переносном значениях лексемы ветер выражается отрицательная оценка. Положительная коннотация появляется в смысловой структуре данного существительного, например, в следующих контекстах: <…> при солнечном ударе перенести больного в тень, по возможности на свежий ветер (ВП, 04.08.1999), Всем вам попутного ветра, счастливого плавания (ВП, 24.07.1999). Прилагательное свежий позволяет выделить некоторые присущие движущимся слоям воздуха свойства и состояния: пониженная температура, чистота, способность оказывать благотворное влияние на организм человека. Во втором предложении положительная оценка также выражается при помощи прилагательного: попутным называют ветер, помогающий человеку, облегчающий его деятельность.
Лексема стихия представляет собой родовое наименование явлений природы, обладающих разрушительной силой, которой человек не может противостоять или способен покорять ее с большим трудом [БТСРС, с. 117]. Так же, как и существительные осадки и ветер, данное слово объединяет в своей семной структуре предметное и процессуальное значения. Однако анализ особенностей функционирования субстантива стихия позволяет утверждать, что в указанном ЛСВ процессуальность занимает доминирующее положение. В его смысловой структуре чаще всего актуализируются семы ‘разрушительная сила’: К ночи уже вовсю бушевала стихия (ВП, 26.02.1999); ‘темпоральность’: <…> ночная стихия косвенным образом коснулась едва ли не всех волгоградцев (ВП, 11.08.1998); ‘распространение во всех направлениях, широкий охват территории’: Стихия не обошла и Камышин (ВП, 21.06.2000), Стихия не тронула лишь две улицы (ВП, 16.04.2003); ‘результат действия’: …Вред, который нанесла Камышинскому району стихия, пока не подсчитан (ВП, 16.04.2003), <…> в результате стихии у нас погибли десятки людей <…> (ВП, 19.04.2003).
В ряде контекстов в смысловой структуре существительного стихия ослабевает значимость семы ‘разрушительная сила’: на льдине в плену у полярной стихии <о членах экипажа парохода «Челюскин» после его гибели> (СП, 12.12.1939). В таких случаях слово стихия обычно обозначает среду, для которой характерны явления природы, а также совокупность климатических условий, создающих определенные трудности для людей, угрожающих их жизни.
Лексема стихия также способна обозначать определенную природную среду, совокупность условий в процессе функционирования в значении «один из основных элементов природы» [БТС, с. 1270]: А обитатели небесной стихии как себя ведут по отношению к гостям на дельтапланах? (ВП, 29.03.2001).
Для обозначения среды, не связанной с природой, субстантив стихия реализует ЛСВ «привычное окружение, среда существования // привычный, любимый круг занятий, интересов и т. п., область знаний, деятельности, особенно близкая кому-л.» [БТС, с. 1270]: История литературы — его стихия (ВП, 13.04.2002) и оттенок значения «общественная среда, плохо поддающаяся оформлению, руководству, целенаправленному движению» [Там же, с. 1270]: стихия русского бунта (ВП, 04.11.2000). Их взаимодействие прослеживается в заголовке статьи «Стихия скорости» (ВП, 07.02.2002) о соревнованиях по мотокроссу: стихия — это не только среда существования тех, кто занимается мотогонками, но и воздействие на человека среды, которая обволакивает, поглощает его, заставляет целиком погрузиться в нее.
Лексическая единица погода является гиперонимом одноименной ЛСГ. В отличие от своих антонимов непогода, ненастье, она может употребляться по отношению к природным условиям, имеющим как положительную оценку: Стоит очень хорошая погода, благоприятная для роста всех культур (СП, 26.05.1938), Летние месяцы и начало осени — это не только изумительная погода, но еще и возможность навитаминитъ родной организм на целый год вперед (ВП, 12.09.2002), так и отрицательную: Погода была неблагоприятная — резкий ветер, облачность, плохая видимость (СП, 16.01.1942), Несмотря на мерзкую погоду в выставочном зале было тепло и солнечно (ВП, 20.03.2001). Следовательно, существительное погода в ряде контекстов становится синонимом слов непогода, ненастье.
Погода как состояние атмосферы характеризуется такими признаками, как температура, уровень влажности, давление, наличие / отсутствие ветра [БТСРС, с. 118]. Главными контекстуальными уточнителями, способствующими их актуализации, являются прилагательные. Например, реализация дифференциальной семы ‘температура, близкая к высокой’ осуществляется при помощи слова теплый: Установилась теплая погода (СП, 02.04.1938), <…> умеренно теплая погода с температурой воздуха 10-13 градусов сменится прохладной дождливой погодой (ВП, 27.10.1998).
Указание на уровень влажности содержится в словосочетании без существенных осадков: Сегодня днем по области и в Волгограде ожидается малооблачная погода, без существенных осадков (ВП, 08.02.2003). Кроме этого, контекстуальный уточнитель малооблачно указывает на наличие в смысловой структуре существительного погода дифференциальной семы ‘ясность’.
В качестве еще одного признака, характерного для смысловой структуры слова погода, следует выделить интегральную сему ‘изменение состояния’: Непостоянна погода ноября: с вечера льет дождь, порывы ветра хозяйничают на безлюдных дорогах и осиротелых полях, а утром, смотришь, резко похолодало и лучи солнца зажигают бесчисленные гирлянды звездочек на инее деревьев (ВП, 01.11.2001).
От того, какой набор семантических признаков представлен в смысловой структуре лексемы погода, зависит оценка носителями языка обозначаемых ею природных явлений. Отрицательная коннотация появляется в том случае, если погода мешает осуществлению деятельности, оказывает негативное воздействие на психологическое состояние человека: И урожайность культур, продуктивность сельскохозяйственного производства в огромной степени зависят от сложившейся в данный год погоды, а главным врагом и причиной неурожаев всегда были жестокие засухи, случающиеся в нашей области в среднем 4 раза в год (ВП, 23.03.2002). Положительно оценивается такое состояние атмосферы, при котором создаются благоприятные условия для жизнедеятельности человека: Полагаю, особых тревог хлеборобам испытывать не придется. С осени погода играла в их пользу (ВП, 10.03.1999).
Влияние на жизнь людей и состояние окружающей среды также отражается в смысловой структуре слова климат: Климат влияет на безопасность жизни и имущества, на продовольственную безопасность и водные ресурсы, в известной степени — на здоровье, настроение, характер людей, даже на их мышление и культуру (ВП, 22.03.2003). Данная лексема используется для обозначения многолетнего режима погоды в какой-либо местности [ТСРЯ, с. 340]. Однако из всей совокупности признаков, характерных для понятия погоды, в смысловой структуре существительного климат в большинстве случаев выделяется только интегральная сема ‘температура’: Вместе с тем районные администрации пока еще не особенно озабочены отдыхом своих жителей, хотя это очень странно в условиях нашего жаркого климата (ВП, 29.06.2002). Повышение или понижение температуры приводит к изменению климата: Одной из причин перегрева, наряду с глобальным потеплением климата на земле, является отсутствие защитной роли зеленых насаждений, которые при нормируемой площади посадки могут снижать температуру воздуха на 7—10 градусов С (ВП, 11.07.2002).
В текстах газеты «Волгоградская правда» отмечаются случаи функционирования существительных климат [ТСРЯ, с. 340], погода [ССП, с. 410] в значении «обстановка»: Сегодня всем вам, милые женщины, мы шлем самые искренние слова признательности за то, что создаете вокруг себя климат душевной теплоты, одухотворенности и благородства <…> (ВП, 07.03.1998), Цели и задачи не меняются — создание благоприятного инвестиционного климата, способного оздоровить экономику, содействовать решению вопросов занятости местного населения (ВП, 24.06.2000), Приезд Дмитрия Пиорунского, второго лица в Союзе кинематографистов и Российском фонде культуры после Н. С. Михалкова, возможно, повлияет на улучшение «погоды» шукшинских Дней <…> (ВП, 29.09.2000). В данном значении указанные лексемы синонимичны субстантиву атмосфера, в семантической структуре которого выделяется подобный ЛСВ.
Актуализация в прямом и переносных значениях рассмотренных гиперонимов широкого спектра семантических компонентов, указывающих на специфику восприятия окружающей действительности человеком, позволяет сделать вывод о том, что данные лексические единицы занимают немаловажное место в системе средств репрезентации русской языковой картины мира.
3.1.1. Лексико-семантическая группа «оптические явления»
Существительные ЛСГ «оптические явления» обозначают явления, связанные с наличием или отсутствием света в природе. Помимо интегральных сем ‘наличие световых явлений’ и ‘отсутствие световых явлений’, в структуре их значений выделяются такие компоненты, как ‘характер возникновения’ (все субстантивы), ‘наличие / отсутствие’ (все субстантивы), ‘местоположение’ (блеск, блестки, блик, венец, закат, зарево, зарница, заря, мгла, молния, облако, отблеск, отсверк, радуга, рассвет, туча), ‘интенсивность’ (блеск, блик, заря, искра, мерцание, молния, освещенность, отблеск, отлив, отсверк, отсвет, полумрак, полусвет, полутень, полутьма, рефлекс, свечение, сияние, сполох, сумерки, туча), ‘темпоральность’ (восход, вспышка, денница, зайчик, зарница, затмение, закат, метеор, молния, проблеск, рассвет, сполох), ‘размер’ (блестки), ‘форма’ (блестки, блик, венец, зайчик, искра, луч, молния, отблеск, отлив, отсверк, отсвет, просвет, радуга, сноп), ‘цвет’ (венец, молния, просинь, радуга, рефлекс, сверкание), ‘температура’ (огонь, пекло, пламя, полымя, солнце), ‘качество видимости’ (дым, дымка, марево, мгла, мрак, муть, полумгла, полумрак, полусвет, полутьма, потемки, сумерки, сумрак, темень, темь, туман).
Указанные признаки реализуются при функционировании данных существительных в прямом значении. Кроме них, в смысловой структуре слов, служащих для наименования оптических явлений, могут актуализироваться дифференциальные и потенциальные семы ‘густота’: густая дымка (СП, 08.10.1938), погода с густым туманом (ВП, 26.11.2002); ‘широта’: в узкий просвет между двумя соснами (СП, 15.12.1939); ‘время года, месяц’: синий майский сумрак (СП, 26.05.1938), <…> краски <…> осенних сумерек (ВП, 28.01.1998); ‘защита от неблагоприятных погодных условий’: <…> ветви дерева создавали тень и дарили людям прохладу (ВП, 03.03.2001) и др.
В процессе анализа гиперонимов существительных ЛСГ «оптические явления» нами было отмечено, что свет получает положительную оценку, а тьма — отрицательную. Такая же тенденция проявляется при функционировании гипонимов: мрачные тучи (СП, 02.10.1938), красивые искры (ВП, 20.11.2002).
В зависимости от источника излучения слова ЛСГ «оптические явления» могут обозначать не только природные явления: Здесь лучшая в районе изба-читальня с библиотекой, радиоприемником, электрическим освещением (СП, 05.12.1939), Лучи прожекторов настороженно ощупывали небо (ВП, 26.05.1999). В приведенных примерах у лексем освещение и луч актуализируется категориально-лексическая сема ‘искусственное освещение’.
В переносном значении субстантивы ЛСГ «оптические явления» выступают, главным образом, в качестве рефлексий на события различных эпох.
Представление об эпохе правления И. В. Сталина как о новом времени, эпохе прогресса, улучшения социально-политической и экономической обстановки выражается и при реализации переносного значения существительного заря — «начало, зарождение чего-н. (радостного, светлого)» [СУ, т. I, с. 1023]: <…> взошла сталинская заря новой жизни (СП, 15.10.1939).
У существительного луч при употреблении в метафорическом значении «проблеск чего-н.» [СУ, т. II, с. 97] в предложении Согретые лучами Сталинской Конституции, мы получили право на труд, на отдых, на образование (СП, 06.07.1938) актуализируются дифференциальные семы ‘яркий свет’, ‘высокая температура’, что формирует ощущение доброты, заботы о народе со стороны властей. В предложениях Сверкают яркие огни новой жизни (СП, 06.06.1938), Заревом алых знамен и стягов полыхает Красная площадь (СП, 04.05.1938) за счет актуализации в смысловой структуре слов ЛСГ «оптические явления» дифференциальных признаков ‘сияние’, ‘яркий свет’, ‘красный цвет’ создается ощущение праздника, счастья. Существительные огонь, пламя опосредованно передают эмоциональное состояние советского народа, духовное единение, воодушевление. Этому способствует наличие в семантической структуре данных слов переносных значений, характеризующих чувства человека: <…> пламя чувства советского патриотизма хранит в своих сердцах весь великий советский народ (СП, 06.06.1939) (пламя — «пыл, жар, воодушевление» [СУ, т. III, с. 793]).
В природе пламя, огонь, зарево могут быть связаны с явлением пожара, что находит отражение в языке. Слова пламя, огонь, зарево оказываются семантически связанными с лексемами, обозначающими не только оптические явления, но и стихию, что делает возможным их функционирование в контекстуальных значениях в качестве средств создания образа войны, революции: пламя революционного пожара, которое сожгло буржуазно-помещичий, капиталистический строй России (СП, 04.12.1938), пламя нового мирового военного пожара (СП, 03.08.1938), кровавое зарево новой, второй мировой войны, в котором первыми запылали Испания и Китай (СП, 10.11.1938), пламя контрреволюции (СП, 03.01.1939). При этом если пламя пожара революции воспринимается советскими гражданами в рамках социалистической идеологии как спасительная сила, обусловившая переход России к более совершенному общественно-политическому строю, то пламя, огонь и зарево пожара Второй мировой войны — как уничтожающая сила, угроза благополучной, светлой и счастливой жизни советского народа, а пламя партизанской борьбы — как символ патриотизма, готовности защищать родину.
Слово огонь в газетных текстах периода Второй мировой войны чаще всего употребляется для обозначения ружейной или артиллерийской стрельбы [Цивилева, 2008], является символом не только защиты, обороны: Наши пулеметы смертельным огнем поливали японских захватчиков (СП, 11.03.1939), но и разрушения, смерти: Вдруг слева, из-за бугра, выскочил вражеский бронеавтомобиль и открыл бешеный огонь (СП, 21.01.1942). В текстах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в частности Сталинградской битвы, встречаются случаи совмещения данного ЛСВ с оттенком прямого значения «раскаленные светящиеся газы, отделяющиеся от горящих предметов; пламя // то же, как источник пожара» [СУ, т. II, с. 750]: Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь и уничтожить целое государство (СП, 07.02.1943). В данном контексте у лексической единицы огонь актуализируются два ЛСВ: «источник пожара» и «ружейная или артиллерийская стрельба» (сочетание слова огонь с глаголами сжечь и уничтожить приобретает два значения: «устроить пожар, сжечь» и «разрушить путем ведения стрельбы»).
В текстах газеты «Сталинградская правда» употребляются в переносном значении существительные, обозначающие явления, из-за которых создается плохая видимость. Такие слова используются для противопоставления Советскому Союзу ситуации в других странах, обозначения опасности: Для немецко-фашистских войск это был год <1943> заката, для Красной Армии — год грандиозных побед (СП, 31.12.1943), Однако черные тучи смертельной опасности надвигались на Советскую республику с юга (СП, 31.12.1939).
Особенностью функционирования в публикациях «Сталинградской правды» существительных ЛСГ «оптические явления» является употребление их для обозначения реалий советской эпохи. Телеграмма, пересылаемая адресату очень быстро, для наименования которой служит субстантив молния, была важнейшим средством связи. С развитием информационных технологий передача каких-либо сведений, сообщений посредством телеграмм утратила свою значимость, что нашло отражение в современных словарях: в БТС в семантической структуре этого слова данный ЛСВ отсутствует, а в РАС все реакции на стимул молния связаны только со значениями «атмосферное явление», «застежка для одежды» [БТС, с. 552; РАС, с. 326]. Существительное молния употреблялось также в значении «большая настольная или подвесная керосиновая лампа с круглой горелкой и высоким, внизу округлым стеклом» [ТСРЯ, с. 456]: Когда вечерние сумерки окутали станицу, избач Тузилкин зажег в клубе 8 ламп «молния» (СП, 08.10.1938). В настоящее время принято использовать другие осветительные приборы, поэтому в текстах постсоветской публицистики указанный ЛСВ не встречается.
В региональных печатных СМИ рубежа ХХ-ХХI вв. при помощи слов ЛСГ «оптические явления» отражается в основном негативно воспринимаемая картина русской действительности.
При описании социально-экономической обстановки используются существительные, которые обозначают явления, создающие плохую видимость: Серый туман черного пиара опускается на волгоградскую землю (ВП, 12.08.2000), Финансовый туман не рассеивается (ВП, 28.04.1999). При реализации ЛСВ «то, что мешает ясно понимать окружающее, события, факты, затемняет сознание» [БТС, с. 1352] слово туман вступает в синтагматические отношения с такими же лексемами, что и главный ЛСВ «скопление мелких водяных капелек или ледяных кристаллов в приземных слоях воздуха, делающее его непрозрачным» [БТС, с. 1352], благодаря чему проясняется внутренняя форма переносного значения.
Положительная оценка выражается при помощи слова огонь, употребляющегося в значении «свет от осветительных приборов» [БТС, с. 698]. Данный ЛСВ используется в качестве характеристики предметов или явлений, внешний вид которых производит впечатление на человека, нравится ему: Нарядная новогодняя елка для школьников Тракторно-Заводского района в первый раз засверкает огнями 2 января (СП, 24.12.1939), <…> зажгутся огни праздничного фейерверка (ВП, 30.12.1999), а также как показатель высокого уровня жизни, ее благоустроенности: Новые прозрачные двери автоматически раскрылись передо мной и впустили в роскошный расцвеченный огнями холл (ВП, 08.02.2002). В публикациях «Сталинградской правды» слово огонь приобретает символическое значение (возрождение города после Сталинградской битвы): На месте руин встали ряды белых домиков, наметились улицы, засияли в окнах огни (СП, 17.10.1943). Характеристики предметов или явлений, внешний вид которых производит положительное впечатление на человека, и высокого уровня жизни могут совмещаться в смысловой структуре лексемы огонь: Поздним вечером Москву заливает миллион огней. Вид — изумительный (ВП, 04.12.1999). Как видно из данного примера, отношение автора к увиденному, восхищение передано во втором предложении. В первом предложении содержится скрытая оценка с эмоциональной и качественно-количественной квалификацией изображаемого (залить — «сильно осветить», миллион — «очень много»). В этом же контексте выражена мысль о том, что сияние улиц столицы множеством огней является одним из признаков богатой, благоустроенной жизни.
В значении «стрельба ружейная или артиллерийская» лексема огонь функционирует в постсоветских СМИ в текстах о войне, например о событиях 1941 г.: Но Попов не растерялся и открыл мощный беглый огонь (ВП, 18.11.1999). В публикациях газеты «Волгоградская правда» отмечаются случаи реализации образованного от него ЛСВ «деятельность, направленная против кого-л., нападки на кого-л.» [ССП, с. 358]: Традиционная процедура: стоят под огнем вопросов с мест и тут же берут их себе «на карандаш» (ВП, 06.06.2001). Данное значение возникло в результате метафорического переноса по сходству направления, особенностей протекания во времени стрельбы и словесной атаки: в обоих случаях для осуществляемых действий характерно то, что они имеют определенное направление и быстро следуют одно за другим.
Существительные ЛСГ «оптические явления», репрезентирующие в постсоветских региональных СМИ языковую картину мира, нередко используются для изображения спортивных событий: Затмение спортивного «золота»? (ВП, 13.02.1998), Однако вспышка активности люберецких девушек длилась недолго (ВП, 25.10.2001).
Как видно, особенности функционирования существительных ЛСГ «оптические явления» в газетах «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» различны.
Сходство переносного употребления данных лексических единиц отмечается в основном в таких текстах разновременных областных газетных изданий, в которых при их помощи выражаются различные чувства людей, например угнетенность, подавленность: Но с твоим уходом из жизни вся Вселенная окончательно окуталась полнейшим мраком (ВП, 30.08.2003), воодушевление: Вы зажгли огонь в наших душах (ВП, 20.02.1998), беспокойство: Фигура Белякова выпрямилась, зрачки глаз расширились, по лицу пробежали тревожные тени (СП, 10.02.1939); отношение носителей языка к кому- или чему-либо: Детективное затмение (ВП, 06.07.2001 — о равнодушии хуторян к поэзии, книгам по сельскому хозяйству, к экономике и увлечении детективами), Наши чувства, чувства великого свободолюбивого народа горят неугасимым пламенем ненависти и мести (СП, 09.01.1942). Употребляются существительные ЛСГ «оптические явления» и для характеристики мыслительной деятельности: Так и рассуждайте с умным видом, пока туман в голове не рассеется окончательно (ВП, 14.07.2001), творческих способностей: Так бесславно кончился первый дебют Екатерины Петровны Мязиной, но он навсегда оставил след в ее жизни потому, что тогда впервые блеснула в человеке искра, которой впоследствии суждено было загореться (СП, 17.12.1939), Ребята с блеском фантазировали в заданных тональностях (ВП, 30.01.2001).
Несмотря на то, что у субстантивов ЛСГ «оптические явления» в процессе функционирования актуализируются разнообразные в плане содержания семантические компоненты, релевантными из них для репрезентации русской языковой картины мира являются интегральные семы ‘наличие света’, ‘отсутствие света’, ‘интенсивность’, что также характерно для переносных значений проанализированных лексических единиц.
3.1.2. Лексико-семантическая группа «звуковые явления»
В состав ЛСГ «звуковые явления» входят существительные, обозначающие наличие звуков в неживой природе (всплеск, гром, грохот, гул, плеск, раскат, шум) или отсутствие (безмолвие, затишье, молчание, покой, спокойствие). Помимо интегральных сем ‘наличие звуков’, ‘отсутствие звуков’, в структуре их значений выделяются следующие компоненты: ‘характер возникновения’ (вой, всплеск, гром, журчание, отзвук, отзыв, плеск, раскат, скрежет, шелест, шорох, эхо), ‘интенсивность’ (безмолвие, грохот, журчание, затишье, молчание, призвук, рев, скрежет, удар, шелест, шорох, шум), ‘темпоральность’ (вой, всплеск, гром, дробь, затишье, клокот, раскат, рокот, стук, треск, удар), ‘качество звучания’ (гул, призвук, ропот, шум).
Поскольку некоторые субстантивы рассматриваемой ЛСГ в своих прямых значениях служат наименованием звуковых явлений, происходящих не только в неживой природе, при их употреблении уточняется источник звуков: гул волн (СП, 07.11.1940), шум дождя (СП, 18.07.1940), шум волны (ВП, 19.02.1999), гул техники (ВП, 17.04.2003), шум самолета (ВП, 19.04.2003).
В процессе функционирования существительных ЛСГ «звуковые явления» в текстах СМИ при помощи контекстуальных уточнителей либо усиливается длительность или интенсивность звучания, указываются особенности его восприятия человеком: Огненные змеи, извиваясь, бросались вниз, пучина со страшным треском проглатывала молнии и снова наступала черная, ревущая мгла (СП, 07.11.1940), либо подчеркивается отсутствие звука, крайняя степень проявления признака: Представьте себе: снежное поле, которому конца-края не видно, голубое небо, вечные льды даже не синего, а какого-то лазуритового цвета — так на них играет солнце, и вековое безмолвие (ВП, 24.03.2001).
Обозначение звуков неживой природы может осуществляться и при метафорическом употреблении слов рассматриваемой ЛСГ: Под натиском талых вод с громом и звоном вода крушит лед в водоемах, а в реках уносит его на волю к морю (ВП, 01.04.2003). В приведенном примере реализовано значение «сильный шум, звуки ударов», которое образовано от ЛСВ «сильный грохот, раскаты, сопровождающие молнию во время грозы» [ТСРЯ, с. 172]. Основанием для переноса послужило сходство восприятия человеком звуков воды в начале таяния льда на реках и грома во время грозы.
Наличие в структуре главного значения существительного гром дифференциального признака ‘высокая степень интенсивности’ позволяет вводить образность, экспрессивность в тексты о войне: Мы обращаемся к вам в разгар великого сражения под гром несмолкаемой канонады в зареве пожарищ на крутом берегу великой русской реки Волги (ВП, 28.02.2003). Семантика интенсивности также представлена в значении «очень сильный (с раскатами) шум» [СУ, т. I, с. 627] лексемы грохот: Сквозь пелену снега и свист ветра он видит бронепоезд, который водил в гражданскую войну, слышит грохот орудий (СП, 21.01.1942).
В публикациях постсоветских региональных газетных изданий в метафорическом значении «о быстро проходящем проявлении какого-л. чувства, состояния, настроения» [БТС, с. 160] активно употребляется слово всплеск: Последовал резкий всплеск инфляции, произошло катастрофическое урезание, можно сказать нивелирование оборотных средств предприятий (ВП, 29.08.1998), Сегодня на уровне Волгограда, да и области наблюдается уже второй по счету всплеск разговоров вокруг темы поддержки предпринимательства (ВП, 29.01.1998), Подхваченные оркестровым вихрем с виртуозными всплесками баяна (Владимир Коньшин), они пропели, протанцевали эту вечно живую историю <…> (ВП, 24.03.1999). При переносе наименований актуализировались дифференциальные семы ‘внезапное начало’, ‘быстрое окончание’, ‘восходящее движение’ [БТС, с. 160].
Существительные, обозначающие звуки природы, обладают невысоким семантическим потенциалом для репрезентации русской языковой картины мира в текстах региональных СМИ. Их употребление характерно для контекстов, в которых создаются пейзажные зарисовки, раскрывается душевное состояние человека. Релевантными для выражения представлений носителей языка при помощи производных значений проанализированных субстантивов являются дифференциальные семы ‘высокая степень интенсивности’, ‘быстрое протекание во времени’.
3.1.3. Лексико-семантическая группа «движение в водном пространстве / потоке»
ЛСГ «движение в водном пространстве / потоке» представлена в русском языке существительными, обозначающими различного рода движения, происходящие в воде под действием природных факторов и отличающиеся друг от друга признаками, отраженными в интегральных семах ‘характер возникновения’ (волна, зыбь, паводок, рябь, толчея), ‘место действия’ (барашки, бурун, течение), ‘интенсивность’ (бурун, зыбь, прибой, рябь, течение), ‘темпоральность’ (отлив, прилив), ‘способность к пенообразованию’ (барашки, бурун), ‘характер движения’ (волна, волнение, отлив, паводок, прилив, приток, самотек), ‘высота движущейся массы воды’ (вал).
В текстах региональных печатных СМИ для репрезентации языковой картины мира в основном реализуется семантический потенциал существительных волна и волнение.
Субстантив волна функционирует в прямом значении «водяные бугры, образующиеся в ветреную погоду в результате сильного колебания водной поверхности (реки, моря, океана и т. п.)» [БТС, с. 146] для обозначения колеблющейся водной поверхности: Мощно рассекая волны, направляется он <пароход> вперед! (СП, 12.11.1938). Однако в контексте данное слово может использоваться для наименования не только поверхности воды, но и пространства, его протяженности по вертикали: Слушая его, Елена чувствовала, что так любит этого человека, что скажи он — переплыви Волгу, она не задумываясь бросилась бы в волны (ВП, 28.06.2003). В этом предложении волна обозначает границу между сушей и водой, сигнализирует о начальном этапе погружения кого- или чего-либо в воду, который неизбежно завершится перемещением объекта на дно реки, водоема и т. п.
В значении «о чём-л., напоминающем по виду волнующуюся поверхность» [БТС, с. 146] субстантив волна употребляется в основном в форме творительного падежа, выражающего определительное значение внешнего признака, качества или свойства [Русская грамматика 1980, т. I, с. 482]: Был такой же погожий день, в траве трещали кузнечики, легкие волны пробегали по необ’ятному морю пшеницы (СП, 15.12.1940), Островки вороньих стай <…> поднимаются вверх черными волнами (ВП, 27.10.2001). Способность данного существительного выступать в функции скрытого сравнения заложена в самом лексическом значении, в интегральном признаке ‘напоминающий по виду’.
Основой внутренней формы ЛСВ «о движении отдельных масс (воздуха, звуков, людей и т. п.), следующих друг за другом через какой-л. промежуток времени», «о каком-л. явлении в жизни общества, периодически повторяющемся или вызывающем ряд подобных явлений» [БТС, с. 146] послужила способность волн двигаться с определенной периодичностью, в определенном порядке. При функционировании существительного волна в указанных значениях внутренняя форма может эксплицироваться в контексте: <…> нарастает новая волна политической и производственной активности (СП, 09.05.1938), Вражеские самолеты налетали волнами, одна за другой (СП, 02.07.1942), <…> люди поверили красивым призывным словам, программам демократов первой волны <…> (ВП, 02.07.1999), Очередная «избирательная волна» в области закончится лишь через полтора года (ВП, 25.06.2003). Дифференциальные семы ‘периодичность’ и ‘определенный порядок’ актуализируются благодаря контекстуальным уточнителям новый, один за другим, первый, очередной.
Следует отметить, что способность волн двигаться друг за другом через какой-либо промежуток времени не всегда является релевантным признаком при образовании переносных значений. Нередко слово волна реализует значение «массовое проявление чего-л.», зафиксированное в ТСРЯ [ТСРЯ, с. 106] как созначение ЛСВ «о том, что движется друг за другом во множестве на нек-ром расстоянии». При этом в качестве мотивирующего признака выступает способность волн приобретать большую силу и размер: Подняли голову все капитулянтские элементы, пригнанные волной революционного движения к антифашистскому берегу (СП, 14.03.1939), <…> страну буквально захлестнула волна преступности и терроризма (ВП, 23.06.2001). Такая же особенность характерна для существительного вал: <…> вал коррупции и многое другое, что уничтожает и разрушает нравственно гражданина и человека (ВП, 22.08.2001), <…> днем <…> шли пожилые и неработающие, а после окончания рабочего дня начинался новый живой вал (ВП, 06.11.2001). Совпадение производных ЛСВ рассматриваемых нами слов неслучайно: оно обусловлено синонимическими отношениями главных значений существительных волна и вал (вал — «значительная по высоте волна» [БТСРС, с. 114]).
Способность волн приобретать большую силу и размер выступает в качестве мотивирующего признака значения слова волна «о сильном приливе чувств, мыслей и т. п.» [БТС, с. 146]: От края до края нашей цветущей страны разливается сегодня могучая волна ликования счастливого советского народа (СП, 01.05.1938), Среди трудящихся масс высоко поднялась волна возмущения (СП, 29.07.1939).
Различия ЛСВ «массовое проявление чего-л.» и «о сильном приливе чувств, мыслей и т. п.» заключаются в том, что первое используется для характеристики явлений действительности, обладающих разрушительной силой, представляющих угрозу для жизни людей; второе позволяет охарактеризовать эмоциональную сферу человека.
Употребляется слово волна и в значении «колебательное движение в какой-л. среде; распространение этого движения» [БТС, с. 146]: Приемник пятиламповый, работает на длинных и коротких волнах (СП, 21.03.1941), Остановлено вещание радиостанций «Маяк» и «Радио России», которое ведется на средних волнах (ВП, 09.02.2002). Данный ЛСВ в текстах СМИ середины XX в. встречается редко, что обусловлено ограничением сферы его функционирования (помета физ. в СУ), а также тем, что обозначаемая им реалия в то время еще не получила широкого распространения.
Нередко семантический потенциал лексемы волна реализуется в материалах СМИ, освещающих спортивные события. При этом она употребляется в значениях, не зафиксированных толковыми словарями. Например, в заголовке статьи о победе волгоградских гребцов Две золотые волны (ВП, 06.09.2001) существительное волна не только указывает на водные виды спорта, но и обозначает в сочетании с прилагательным золотой высшую форму награды.
При функционировании слова волна в заголовке заметки о проигрыше волгоградских ватерполистов югославской команде происходит модификация значения «вода, водное пространство» (поэт., устар.) [СУ, т. I, с. 349]: Под гребнем югославской волны (ВП, 15.02.2000). В данном контексте возникает метафора, позволяющая создать образ захлестнувшей российских спортсменов неудачи, указать на неравное положение победителей и проигравших.
В текстах постсоветских СМИ встречаются и другие случаи употребления лексемы волна в несвойственном для нее значении. Например, в предложении Еще совсем недавно «на волне» были фиалки в крапинку, с лепестками, словно сбрызнутыми чернилами (ВП, 29.10.2003) словоформа на волне получает контекстуальное значение «в моде», используется для выделения наиболее значимых предметов из ряда подобных.
Еще одно существительное ЛСГ «движение в водном пространстве / потоке», существительное волнение, редко употребляется для наименования водяных бугров [БТС, с. 146]. Для него характерно функционирование в переносном значении «нервное возбуждение, вызванное ожиданием чего-л. нового, предчувствием чего-л. неизвестного // сильное беспокойство, тревога» [Там же, с. 146] в контекстах, передающих различные оттенки свойственного человеку чувства беспокойства. При этом в смысловой структуре субстантива могут актуализироваться дифференциальные и потенциальные семы ‘страх’: Каждое утро бросались люди к газетам, с затаенным волнением прочитывали сообщения о ходе болезни любимого вождя (СП, 14.04.1940), Каждый день с волнением открываю свой почтовый ящик, боясь получить скорбное сообщение о смерти кого-либо из близких или ветеранов (ВП, 02.02.1999); ‘ответственность’: К строительству этого дома приступали с волнением. Здесь бригада должна была показать, что, построив 10 домов, она овладела стахановскими методами (СП, 18.08.1943), Сев весной или осенью — пора особых забот, тревог и волнений лесоводов (ВП, 06.08.2002); ‘воодушевление, интерес’: Кто-то принес мне подборку твоих стихов, и по горячему волнению, охватившему меня при чтении <…>, я убедилась в необходимости тебя разыскать (ВП, 06.06.2002).
Для обозначения массового выражения недовольства, протеста [БТС, с. 146] существительное волнение используется, главным образом, в текстах 1938-1943 гг., что объясняется специфической социально-политической обстановкой того времени. При этом в его смысловой структуре актуализируются семы, отражающие определенные этапы общественного движения. Среди таких компонентов значения представляется возможным выделить потенциальные семы ‘ожидание’: Полагают, что Муссолини опасается возникновения волнений в Южной Италии (СП, 21.01.1942); ‘возникновение’: <…> среди матросов вспыхнули волнения (СП, 07.07.1943); ‘окончание’: <…> в городе произошли волнения (СП, 14.12.1939); ‘бытийность’: <…> там происходят волнения среди индусских мусульман (СП, 23.04.1940), В регионах тоже волнения, митинги, поиски врагов, призывы сообщать о поведении начальства 19—22 августа по указанному телефону (ВП, 19.08.2000).
Существительное течение «движение значительного потока, больших масс воды в морях, океанах, а также сам движущийся в определенном направлении такой поток» [БТСРС, с. 114] реализует в текстах региональных СМИ вторую часть значения: <…> они используют силу течения местной речки для обмолота хлебов (СП, 17.08.1943), Попав в быстрое течение, не плывите против него, а плывите по течению, приближаясь к берегу (ВП, 23.06.1999). Оно может употребляться для обозначения определенного участка водного пространства, что сближает данный субстантив с единицами ЛСГ «часть водного пространства». Такое свойство проявляется при условии функционирования этого существительного в сочетании с прилагательными, характеризующими место или характер движения водного потока: В начале февраля, как правило, толщина льда на Волге достигала 75 сантиметров, а сейчас 20 на тихом течении, на быстром же 5—7 сантиметров (СП, 02.02.1938), О чудесных водах, циркулирующих под землей в нижнем течении Волги, издавна знали жившие здесь кочевники-калмыки (ВП, 19.04.2000). Встречаются случаи реализации данного ЛСВ для обозначения прилегающей к водному потоку или пространству территории: Интересно отметить, что весна в текущем году наступила одновременно в нижнем и верхнем течении реки (СП, 02.04.1938).
Употребляется лексема течение и в значении «направление в какой-л. области деятельности» [БТС, с. 1322]: Перед лицом этих грандиозных достижений противники генеральной линии нашей партии, разные там «левые» и «правые» течения, всякие там троцкистско-пятаковские и бухаринско-рыковские перерожденцы оказались вынужденными смяться в комок, спрятать свои затасканные «платформы» и уйти в подполье (СП, 12.03.1939), <…> он большой знаток подводных течений (так называют в учреждении всяческие закулисные разговоры, сплетни, слушки, все то, что не заметно на первый взгляд, но что является весьма солидной силой) (СП, 10.06.1939). В обоих случаях данный субстантив употребляется для наименования явлений, получающих негативную оценку. В первом предложении под словом течение подразумеваются те, кто находится в оппозиции. Во втором примере в значении «направление в какой-л. области деятельности» актуализируются потенциальные семы ‘незаметный’, ‘побочный’, ‘противоречащий традиционной точке зрения’, ‘обладающий силой воздействия на окружающих’, что обусловливает употребление слова течение в функции номинации и характеристики выражения осуждения, недоброжелательности в разговоре с кем-либо.
Таким образом, репрезентация русской языковой картины мира при помощи существительных ЛСГ «движение в водном пространстве / потоке» осуществляется при помощи образованных от них переносных значений. При этом активно используется потенциал субстантивов волна, волнение, течение, актуализируются дифференциальные семы ‘периодичность’, ‘определенное направление’, ‘высокая степень интенсивности’.
3.1.4. Лексико-семантическая группа «ветер»
Существительные ЛСГ «ветер» обозначают движение потока воздуха в горизонтальном направлении, переносящее различные частицы, иногда сопровождаемое осадками. В семной структуре их значений представлены следующие интегральные признаки, характеризующие потоки воздуха: ‘характер возникновения’ (вихрь, порыв, самулг, сквозняк, смерч, циклон, шквал), ‘место действия’ (баргузин, бриз, буран, мистраль, пассат, самум, сирокко), ‘интенсивность’ (бриз, буран, буря, вихрь, вьюга, дуновение, метелица, метель, мистраль, пурга, ураган, шквал), ‘темпоральность’ (бриз, вихрь, мистраль, муссон, пассат, шквал), ‘направление движения’ (баргузин, бриз, мистраль, муссон, сиверко, сирокко), ‘перенесение частиц’ (буран, самум, сирокко, смерч), ‘характер движения частиц внутри потока’ (вихрь, самум), ‘температура’ (мистраль, самум, сирокко, суховей, тайфун), ‘влажность’ (мистраль, самум, суховей), ‘взаимодействие с осадками’ (буря, вьюга, метелица, метель, поземка, пурга, суховей, циклон, шквал).
В процессе функционирования существительных в текстах СМИ помимо дифференциальных сем, конкретизирующих интегральные, актуализируются потенциальные признаки, указывающие на влияние различных видов ветров на жизнь человека: ‘препятствие на пути’: …Зима. Суровая поземка замела дороги, навалила сугробы снега, — ни пройти, ни проехать (СП, 22.12.1940), Лыжню затягивало поземкой (ВП, 11.02.1999); ‘ухудшение видимости’: Три дня злобствует снеговая пурга. Не видно ни зги, безлюдны заснеженные болота, как черное поле, стоит когда-то непроходимый лес, выжженный огнем советской артиллерии (СП, 21.12.1940), До нас эти пыльные бури донесли мелкие частицы, которые и образовали мглу и ухудшили видимость (ВП, 10.04.2001).
Субстантивы ЛСГ «ветер», в смысловой структуре которых актуализируются компоненты, описывающие неблагоприятные условия, затруднительное положение, довольно часто употребляются для того, чтобы сделать акцент на качествах человека, которые помогают ему преодолеть трудности: Сквозь метели и бураны, сквозь ливень свинцового огня вы идете вперед, уничтожая немецко-фашистские полчища, освобождая родную землю от страшного немецкого ига (СП, 19.02.1943), Все знать, все уметь, быть ловким, крепким, выносливым, отправляться без сетований в буран и пургу — все это линейщик должен, чтобы светились окна в домах, работали заводские станки (ВП, 13.07.1999). В приведенных примерах подчеркиваются выносливость, ответственность, ловкость, физическая сила. В текстах о войне, помимо отмеченных черт, делается акцент на способности человека совершить подвиг, преданности родной стране.
Наличие в структуре значений существительных, именующих виды ветра, признаков, указывающих на силу, скорость движения воздушных потоков, способствует реализации в процессе их функционирования семы ‘ущерб’: 18 июля 1940 года, например, над городом Урюпинском прошел сильный ураган с градом. Он выворачивал с корнем деревья, валил телеграфные столбы (СП, 16.11.1940), В ночь на 28 января на Клетский район налетел сильный шквал. Настолько сильный, что у 10 строений ветром снесло крыши (ВП, 02.02.2002). В подобных контекстах некоторые слова ЛСГ «ветер» сближаются по значению с субстантивами ЛСГ «стихия», приобретая семантику стихийного бедствия.
Следует отметить тесную взаимосвязь существительных, обозначающих ветер, и слов ЛСГ «погода», «атмосферные осадки»: Мы отступаем при 35-градусном морозе, кругом буря и снега (СП, 07.01.1942), Сразу становится не жарко, опять же, ветерок, дождичек там… А на этот раз вообще — ливень силы редкостной, целая буря (ВП, 21.09.2000). Возможность употребления с такими субстантивами в качестве однородных членов обусловлена тем, что в значениях существительных, обозначающих погоду, выделяется интегральная сема ‘наличие / отсутствие ветра’.
Наличие переносных значений свойственно субстантивам, у которых в структуре прямых значений содержится дифференциальная сема ‘высокая степень интенсивности’. Она выступает в качестве мотивировочного компонента в ЛСВ «сильное мгновенное проявление какого-н. чувства; душевный подъем, сопровождающийся стремлением сделать что-л.» [БТС, с. 929] слова порыв: Мощный наступательный порыв бойцов и командиров с каждым днем рождает новых героев <…> (СП, 27.01.1942), <…> наша страна в едином порыве любви и признательности отмечает юбилейную дату рождения товарища Сталина <…> (СП, 23.12.1939), Думается, всех исполнителей, от самой молодой Ксюши Шубенковой и до зрелых лауреатов, объединяло в этот день одно — самоотдача и яркий порыв эмоций (ВП, 04.02.1998), Сюда приходят только настоящие друзья, по личному порыву, а не потому, что так надо (ВП, 25.03.2003). Характерно, что в советских СМИ семантический потенциал данного значения реализуется, главным образом, для выражения единства взглядов, духовного настроя представителей широких народных масс, демонстрации сплоченности населения. В публикациях постсоветских газет слово порыв в значении «сильное мгновенное проявление какого-н. чувства; душевный подъем, сопровождающийся стремлением сделать что-л.» используется для раскрытия душевного мира личности или представителей небольшой группы людей. Различны и причины, вызывающие подобные чувства: в газете «Сталинградская правда» в их качестве выступают события, происходящие в социально-политической сфере, затрагивающие интересы всего общества, в «Волгоградской правде» — сфера искусства, межличностных отношений, внутреннего мира отдельно взятого человека.
Для характеристики психологического состояния людей используются ЛСВ «о сильных душевных переживаниях, волнениях» [БТС, с. 105] слова буря: Бурю эмоций вызывали то тут, то там неожиданно появляющиеся струйки фонтанов (ВП, 17.09.2003) и «бурное течение, развитие, проявление чего-л.» [БТС, с. 1395] существительного ураган‘. Ассоциация студенческих профсоюзов и Молодежный досуговый центр представили но Дворце спорта ураган любви от «Агаты Кристи» и нашу волгоградскую труппу «Например» (ВП, 19.02.1998).
Нередко субстантивы ЛСГ «ветер» употребляются в переносных значениях для характеристики социальных и политических явлений. Например, слово буря выполняет такую функцию при реализации ЛСВ «о глубоких социальных потрясениях в жизни общества», в основе мотивации которого лежит дифференциальная сема ‘большая разрушительная сила’, выделяемая в структуре главного значения [БТС, с. 105]: До 11 и 12 часов ночи юноши и девушки ходили по поселку, собирая развеянные бурей войны, пропахшие пороховым дымом, кирпичи, очищали их, складывали в штабеля (СП, 29.10.1943), Но чем более разнообразной будет экономика, тем легче выстоять среди климатических и социальных бурь (ВП, 25.08.1999), Бури и грозы, град и даже необычная февральская гроза, которая, впрочем, их совсем не удивила, — вполне обычное дело, когда сталкиваются два фронта, — все это переживается куда легче, чем бури финансовые (ВП, 22.03.2003). В предложениях из газеты «Волгоградская правда» происходит оживление внутренней формы. Этому способствует употребление в одном контексте слова буря в прямом и переносном значениях. Примеры показывают, что рассматриваемое существительное может употребляться для характеристики не только социальных, но и экономических и политических потрясений. При этом в описании подобных явлений содержится отрицательная оценка. Исключение составляют советские публикации, в которых речь идет о революции, получающей с точки зрения социалистической идеологии положительную оценку: <…> там, где Маяковский говорил о борьбе с грязными бытовыми переживаниями, его язык был иногда подчеркнуто груб, чтобы усилить в слушателе или читателе ненависть и презрение к тому, что должно исчезнуть в буре революционной борьбы (СП, 14.04.1940).
Для характеристики войны и революционных событий также используются в переносных значениях слова вихрь «стремительное течение, развитие или бурное проявление чего-л.» [БТС, с. 133] и ураган «бурное течение, развитие, проявление чего-л.» [БТС, с. 1395]: Огненным вихрем по улицам города кружилась смерть (СП, 07.03.1943), Люди начали по хозяйски собирать заводское добро, разметанное вихрем войны (СП, 25.12.1943), Да только, как известно, вновь грянули в родном Отечестве новые революционные вихри… (ВП, 29.01.2003), <..> он <Марс> идет впереди всех планет, озаряя объятые ураганом войны и безумия земли, в том числе и мою несчастную страну ураганом войны и безумия (ВП, 19.08.2003).
Нередко для создания картины военного сражения слова ЛСГ «ветер» употребляются в сочетании с существительными, обозначающими взрывы, стрельбу, боеприпасы: <…> посыпался огненный шквал бронебойных снарядов (СП, 13.01.1943), Здесь начиная с 13 сентября 42-го и по 30 января 43-го 140 дней и ночей дрожала земля от взрывов снарядов, мин и авиационных бомб, не умолкая, бушевали вихри свинца и рваного железа, а по склонам кургана стекали ручейки солдатской крови (ВП, 15.10.2003), До двадцати вражеских самолетов утюжили наши позиции с воздуха, а когда улетели, обрушился на нас шквал артиллерийского огня (ВП, 09.11.2000).
Обращение к переносным значениям существительных буря и ураган позволяет сделать акцент на таких признаках описываемых явлений, как разрушительная сила, неконтролируемость, хаотичность.
Использование слова шквал дает возможность передать характер стрельбы. При этом конкретизируется не только сила, с которой она ведется, но и направление — прямое, позволяющее попасть точно в цель.
Употребление в переносном значении слова вихрь, актуализация дифференциальных сем ‘порывистый’, ‘круговой’ позволяют передать ощущение стремительного движения по замкнутой траектории: подчинившись силе этого движения, человек не может его остановить, оказывается под угрозой смерти.
Лексема вихрь может также использоваться для характеристики действий отдельной группы людей: Вот так все непросто в службе судебных приставов. Ведь и сам до недавнего времени думал: чего уж там проще, вихрем налетели, оружием погремели, народ и кинулся решение судов выполнять (ВП, 13.09.2001). В основе переноса лежат представления носителей языка о вихре как резком, порывистом, внезапном ветре, появление которого нежелательно.
Следует также отметить случаи функционирования данного существительного в публикациях об искусстве. В предложении А настоящий финал был впереди — роскошная «Барыня» в зеленых с золотом и красных с золотом костюмах <…> и перепадами темпа от вихря до шага и звука от форте до пианиссимо (ВП, 24.03.1999) реализуется оттенок значения (1) «о стремительном кругообразном движении в танце» [БТС, с. 133]. Основанием для переноса послужило сходство движений человека и слоев воздуха. В качестве общих компонентов выступают дифференциальные семы ‘стремительное движение’ и ‘круговое движение’. Рассмотрим еще один пример: Художник пользуется коротким, отдельным мазком, четким, как у пуантилистов. Вихревые потоки этих мазков несутся вниз по склонам сопок, захватывая все видимые стихии: небо, землю и воду. И даже цветы в натюрморте «Красный букет» кажутся шароподобным сгустком этого вихря (ВП, 07.07.2001). Использование существительного вихрь и производного от него прилагательного вихревой в приведенном контексте позволяет охарактеризовать технику рисования, передать особенности творческой манеры художника, подчеркнуть динамику содержания его произведений, отразить взаимосвязь элементов композиции его картин.
В целом анализ субстантивов ЛСГ «ветер» показывает, что в процессе функционирования данных единиц в прямых и переносных значениях в качестве релевантной для репрезентации русской языковой картины мира выступает дифференциальная сема ‘высокая степень интенсивности’.
3.1.5. Лексико-семантическая группа «атмосферные осадки»
В состав ЛСГ «атмосферные осадки» входят существительные, именующие осадки как процесс и результат процесса. В семной структуре их значений выделяются такие интегральные признаки, как ‘характер возникновения’ (глетчер, гололедица, гололед, град, зазимок, изморозь, иней, ледник, лед, наст, пороша, роса, снег, снегопад, сосулька, сугроб, торос, шуба), ‘место выпадения и образования’ (глетчер, гололедица, гололед, изморозь, иней, капель, ледник, ледопад, лед, наледь, наст, припай, ропак, роса, сало, снежница, череп, шуба), ‘интенсивность’ (ливень, снегопад), ‘размер’ (изморось, град, иней, крупа), ‘форма’ (глетчер, гололедица, гололед, град, градина, дождинка, дождь, зазимок, заносы, изморозь, изморось, иней, капель, крупа, ледник, ледопад, ледышка, лед, ливень, льдина, льдинка, морось, наледь, наст, пороша, припай, ропак, роса, росинка, сало, слякоть, снег, снегопад, снежинка, снежница, сосулька, сугроб, торос, череп, шуба, шуга), ‘количество’ (ледник, ливень, снег, снегопад).
Существительные, обозначающие осадки, употребляются в текстах в сочетании с лексическими единицами, благодаря которым актуализируются семы ‘характер движения’: Снег падал большими тяжелыми хлопьями (СП, 17.12.1939), Тучи, снег ли, крупа сыплет, обрезал округу (ВП, 19.04.2001); ‘интенсивность’: В пятницу в Алексеевском районе разразился град с сильным ветром (ВП, 03.06.2003), …В ноябре и декабре были сильные снегопады, а вслед за ними — сильный гололед (ВП, 28.04.1999); ‘количество’: Огромная бугристая площадь, где расставлены щиты, сейчас покрылась толстым слоем снега — до полуметра и больше (СП, 22.01.1939), Где-то перед Синей горой в воздухе замельтешили снежинки (ВП, 11.02.2001), ‘темпоральность’: Выпавший в ночь с 10 на 11 декабря снег покрыл этот участок толстым слоем (СП, 14.12.1940), От талой воды и до январского наста, 9—10 месяцев в году, живут чабаны на отгонных пастбищах в открытой степи, чтобы казенные корма овцу «не съели» (ВП, 31.03.1998); ‘изменение состояния’: В результате дружного таяния снега речки и овраги переполнились водой (СП, 02.02.1940), Примерно на этой «точке» нашего с Варламовым разговора, который проходил на его полевом стане, робкий, нерешительно заморосивший было дождик перерос едва ли не в ливень (ВП, 11.09.2001).
Явления, обозначаемые существительными ЛСГ «атмосферные осадки», воспринимаются носителями языка негативно. На это указывают контекстуальные семы ‘материальный ущерб’: <…> в Руднянском районе град погубил посевы (ВП, 20.06.2000), Снегопады и метели пришедшей зимы нанесли большой ущерб экономике крупных городов, остановив, как, например, на Северном Кавказе, движение на дорогах (ВП, 25.12.2001); ‘создание препятствий’: Дожди не давали развернуть по-настоящему полевые работы (СП, 18.05.1941), Любой дождь, даже не проливной ливень, а нудная осенняя морось превращает недолгий в общем-то поход в адовы муки (ВП, 28.11.2003). Реализация потенциальной семы ‘материальный ущерб’ приводит к сближению субстантивов, обозначающих атмосферные осадки, с существительными ЛСГ «стихия»: На поля колхоза им. Красной Армии, Эльтонского района, выпал небывалый ливень с градом. <…> Там, где прошел град и дождь, вся растительность перемешана с землей и смыта водой (СП, 12.06.1941), Именно от них можно ожидать самых больших неприятностей — грозу, град, сильный ливень (ВП, 22.03.2003).
Отрицательная оценка человеком атмосферных осадков порождает такие контексты, как Летом — жара и мошки с комарами, осенью — паргиивый моросящий дождь, зимой — мороз, весной — слякоть и ручьи (ВП, 22.01.1998). Функционирование в рамках одного предложения существительного дождь и лексемы осенью, которая обозначает время года, воспринимаемое носителями языка отрицательно, способствует, наряду с прилагательными паршивый, моросящий, передаче плохого настроения человека, психологического дискомфорта.
При образовании переносных значений для носителей языка оказываются релевантными такие дифференциальные семы главного значения, как ‘высокая степень интенсивности’: Сквозь метели и бураны, сквозь ливень свинцового огня вы идете вперед, уничтожая немецко-фашистские полчища, освобождая родную землю от страшного немецкого ига (СП, 19.02.1943), После концерта на Владимира Николаевича обрушился тропический ливень зрительских восторгов и родительских благодарностей (ВП, 08.07.1998); ‘положительное воздействие на человека и природу’: Эх, кабы на умирающую региональную сельхозглубинку вместо предвыборного «газетного дождя» да денежный… (ВП, 14.11.2000).
В переносных значениях существительных исследуемого семантического класса может отражаться специфическое восприятие жителями Нижневолжского региона одного из характерных для данной территории явлений: С искони веков наш город был известен пылью. Ее несли сюда сухие горячие ветры. Кто-то назвал постоянную пыль «сталинградским дождем», и это стало крылатой фразой, проникшей даже в литературу (СП, 11.05.1938), Старожилы помнят, как ветер поднимал с них толщу песка или пыли и тогда начинался «камышинский дождь» (ВП, 10.11.1999). В данных предложениях конкретизируется значение «множество, большое количество чего-л. падающего, сыплющегося» [БТС, с. 267] субстантива дождь, который употребляется в функции номинации особого вида атмосферных осадков. Возможность использования для его обозначения указанной лексической единицы обусловлена сходством выпадающих частиц (капли — песчинки) и способом их движения (падением с неба на землю).
В смысловой структуре субстантивов, обозначающих осадки как результат процесса, выделяются семы ‘положение на поверхности’: А хедер от него, зимовавший под снегом, и сейчас лежит в степи (СП, 11.06.1941), Волга не только покрылась льдом, но и лед был завален снегом (ВП, 31.05.2001); ‘толщина’: Огромная бугристая площадь, где расставлены щиты, сейчас покрылась толстым слоем снега — до полуметра и больше (СП, 22.01.1939), Сегодня на прудах повсеместно двойной лед (ВП, 25.03.2003); ‘возможность изменения состояния’: В результате дружного таяния снега речки и овраги переполнились водой (СП, 02.02.1940), Вся эта романтика, безусловно, суровая — купание в ледяных горных озерах, наведение навесных переправ через бурлящие реки, добыча питьевой воды из снега, спуски по веревкам с крутых скал, — в итоге и помогла ребятам победить (ВП, 4.09.2001); ‘время года’: От талой воды и до январского наста, 9—10 месяцев в году, живут чабаны на отгонных пастбищах в открытой степи, чтобы казенные корма овцу «не съели» (ВП, 31.03.1998).
В прямых значениях таких существительных содержится в большинстве случаев отрицательная коннотация: Например, мы начали отрабатывать технологию устройства шероховатой поверхностной обработки дорог, чтобы успешнее бороться с гололедом, чтобы продлевать их жизнь (ВП, 25.12 2001).
Положительно оцениваются образования, возникшие в результате выпадения осадков, лишь в том случае, если они могут приносить пользу сельскому хозяйству, служить источником влаги: Во многих районах идет снег и надо бороться за каждую каплю влаги, чтобы она осталась на полях (СП, 29.03.1941). Употребление существительных, обозначающих осадки как результат процесса, для создания образности также способствует отражению в их смысловой структуре позитивного отношения человека к обозначаемым этими субстантивами природным объектам: Над заводским поселком стояло прозрачное мартовское утро. Блестел обрызганный росой асфальт (СП, 01.04.1939), <…> утром, смотришь, резко похолодало и лучи солнца зажигают бесчисленные гирлянды звездочек на инее деревьев (ВП, 01.11.2001), И словно загорелось «зажженное» росой фиолетовое поле цветущей люцерны (ВП, 02.07.2003). В данных предложениях реализуется способность рассматриваемых существительных вступать в синтагматические отношения со словами, обозначающими оптические явления.
У субстантивов, служащих для наименования осадков как результата процесса, в текстах региональных печатных СМИ могут реализовываться контекстуальные значения. Так, существительное ледник используется для обозначения очень холодного места: Вот сейчас вернулись с дачи на зимовку и попали в ледник. Если нам еще и электроэнергию отключить, то будем жить уже хуже индейцев (ВП, 20.10.2000). Слово торос, употребляемое в прямом значении в функции номинации ледяной глыбы, образовавшейся при сжатии льдов в морях, озерах, реках [ТСРЯ, с. 991], способно обозначать ледяные глыбы во дворах: И подумалось грешным делом: вот бы эту технику к нам во двор, чтобы эти танки да самоходки проутюжили своими гусеницами нескончаемые торосы льда, пробираясь через которые не один жилец успел уже набить себе шишки, а кое-кто и руки-ноги попереломать удосужился (ВП, 22.01.2003). Реализация подобных значений позволяет обратить внимание читателей на необходимость решения определенных социальных проблем, создания комфортных условий.
Завершая анализ особенностей функционирования существительных ЛСГ «осадки», можно сделать вывод о том, что релевантными для репрезентации русской языковой картины мира являются семы ‘высокая степень интенсивности’ и ‘положительное / отрицательное воздействие на объект’.
3.1.6. Лексико-семантическая группа «стихия»
В ЛСГ «стихия» входят существительные, обозначающие явления природы, обладающие разрушительной силой. В структуре значений субстантивов данного семантического класса выделяются интегральные признаки ‘характер возникновения’ (землетрясение, наводнение, оползень, половодье, потоп, разлив, сель, цунами), ‘место действия’ (все слова, кроме существительных огонь, пожар), ‘особенности проявления’ (буря, гроза, землетрясение, извержение, камнепад, лавина, ледоход, наводнение, обвал, оползень, пожар, половодье, потоп, разлив, сель, смерч, тайфун, цунами, шквал, шторм), ‘роль в жизни человека’ (огонь, пожар).
Как и субстантивы ЛСГ «ветер» и «осадки», существительные ЛСГ «стихия» обладают предметно-процессным значением.
Семантика процесса актуализируется, когда существительные, обозначающие стихию, функционируют в текстах, в которых говорится о начале стихийных бедствий, особенностях распространения, времени действия и результатах. Начало стихийного бедствия характеризуется его внезапным появлением, независимостью от особенностей течения жизни человека: Пожары не знают ни праздников ни выходных (ВП, 22.03.2000). Особенности распространения стихии заключаются в том, что она охватывает широкую территорию: <…> продолжается наводнение, охватывающее большую территорию в низовьях реки Бэйхэ (СП, 23.08.1939), В прошлом году сгорело 2032 гектара леса (ВП, 24.07.2002); действует с большой силой: В ночь на 23 мая над Сталинградом разразилась гроза необычайной силы (СП, 24.05.1938). Последствия стихии представлены в смысловой структуре существительных ЛСГ «стихия» семами ‘разрушение’: <…> в результате этого землетрясения разрушено большое количество городов (СП, 28.01.1939), В результате землетрясения в Ташкенте был полностью разрушен <…> крупнейший завод (ВП, 25.12.2002); ‘смерть’: <…> в результате землетрясения <…> 3 человека было убито и 8 ранено (СП, 14.06.1941), <…> рыбак <…> погиб во время шторма (ВП, 29.07.1999); ‘материальный ущерб’: <…> 10-балльный шторм принес большие убытки. В море унесено много ловецкой сбруи (СП, 15.04.1938).
Особого рассмотрения требует лексема пожар. Если причиной бедствий, обозначаемых другими существительными ЛСГ «стихия», являются процессы, происходящие в неживой природе, то к возникновению пожара может привести действие как природного, так и человеческого фактора. Эта особенность проявляется при функционировании данной лексической единицы в текстах СМИ. Источниками пожара могут быть оптические явления: Причиной пожара, по предварительной версии, стал удар молнии (ВП, 21.06.2000), <…> пожар произошел от искры проезжавшего мимо трактора (ВП, 15.07.1999); погодные условия: В связи с установившейся жаркой и сухой погодой в лесах области начались пожары (ВП, 27.07.2000); оставленный без присмотра костер: <…> пожар распространился от стилизованного мангала — мы обнаружили пару обугленных кирпичей и груду консервных банок (ВП, 24.07.2002). Это влияет и на особенности локализации пожаров: они могут происходить в лесу (ВП, 24.07.2002), в степи (ВП, 10.11.2000), на стихийной свалке (ВП, 24.07.2002), в жилом секторе (ВП, 27.07.2002).
В текстах эпохи Второй мировой войны указывается на то, что чаще всего пожары начинаются вследствие взрывов и бомбардировки: В результате бомбардировки в городе возникло много пожаров (СП, 25.04.1943). В качестве причин возникновения данного явления отмечаются также поджоги (СП, 13.01.1943), костры (СП, 10.10.1938).
Обладающие разрушительной силой, угрожающие жизни, стихийные явления получают отрицательную оценку носителей языка. В текстах СМИ только слово половодье может содержать в своей смысловой структуре положительную коннотацию: В половодье, когда Ахтуба разливается, заливает берега, колхозники набирают воду в свое хранилище, и в летние жаркие дни поливают ею почву и деревья (СП, 23.10.1938).
Раскрытию особенностей прямых значений служат переносные, позволяющие выявить потенциальные семы, определить релевантные для репрезентации языковой картины мира признаки.
При образовании метафорических значений основаниями для переноса служат следующие семантические признаки главных значений: ‘опасность’: Партия большевиков <…> в момент величайшей опасности, встретила военную грозу единой, как никогда, сплоченной, сильной, авторитетной (СП, 20.01.1942), В райотделе милиции я долго разговаривал с участковыми инспекторами, которые бьются с этим воровским тайфуном (ВП, 19.03.1999); ‘направление движения’: С поличным — камнями в руках задержаны на днях двое подростков, устраивавших «камнепад» с моста через Камышинку на головы дачников (ВП, 20.07.1999); ‘разрушительная сила’: Смерч опустошения прошел по селам и хуторам <…> (СП, 17.02.1943),
В текстах постсоветских региональных СМИ слова ЛСГ «стихия» употребляются, главным образом, для характеристики психологического состояния человека: Пожар чувств (ВП, 17.05.2002), <…> половодье чувств <…> (ВП, 28.11.2003); речевой деятельности: Рискнувший закурить подросток в людном месте подвергался целой лавине замечаний со стороны взрослых (ВП, 14.03.2000); состояния здоровья: Почечный камнепад (ВП, 28.03.2002 — статья о заболевании почек).
Интересен случай употребления слова пожар в контекстуальном значении: А потому имеем то, что имеем — ходим по плавящемуся городу <…>, умираем в общественном транспорте, больше напоминающем газовую камеру, растекаемся по рабочим столам и — пьем, пьем, пьем, пытаясь залить этот солнечный пожар (ВП, 20.07.2002). В данном примере лексема пожар сближается с существительным жара ЛСГ «погода». Здесь также реализована способность служить характеристикой состояния человека, что позволяет выявить взаимосвязь с другим субстантивом ЛСГ «погода», словом жар. При этом смысловой структуре существительного пожар от главного значения передаются семы ‘очень высокая температура’, ‘угроза жизни человека’, ‘способы борьбы с явлением’. Благодаря взаимодействию со словами жара, жар усиливается значимость семантических признаков ‘очень высокая температура’, ‘угроза жизни человека’ и актуализируется сема ‘источник явления’. Помимо этого, становится очевидной связь значения лексемы пожар с производным ЛСВ слова жар — «высокая температура тела при болезни» [БТС, с. 299].
Слова ЛСГ «стихия» могут использоваться в переносном значении для характеристики сферы экономики: Однако «капитан» у этого «Корабля», ведущий его «сквозь волны и штормы бюджета и сквозь ОМСа туман», крепко держит «штурвал» (ВП, 21.01.1999) и культуры: Наше до недавнего времени «закрытое» общество попало в лавину западной кино-, видео- и печатной продукции (ВП, 16.07.1999).
В публикациях газеты «Сталинградская правда» слова, служащие наименованием стихийных явлений, употребляются в переносных значениях в текстах о военных событиях: Ураганный шрапнельный смерч посылает наперерез катерам корабельная артиллерия (СП, 27.07.1940), Особая Краснознаменная армия обрушится на врага стремительной лавиной и разобьет его там, откуда он приедет (СП, 02.07.1938).
Так же, как и существительные ЛСГ «ветер», «осадки», субстантивы ЛСГ «стихия» в прямом и переносных значениях демонстрируют способность служить средством репрезентации русской языковой картины мира при помощи семы ‘высокая степень интенсивности’. В смысловой структуре обозначающих стихийные бедствия слов содержатся компоненты, выражающие негативную оценку, а в переносных значениях существительных ЛСГ «стихия» передано как отрицательное, так и положительное отношение носителей языка к действительности.
3.1.7. Лексико-семантическая группа «погода»
Существительные ЛСГ «погода» обозначают состояние атмосферы, характеризующееся температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием или отсутствием ветра. В семной структуре значений данных слов выделяются следующие интегральные признаки: ‘характер возникновения’ (гололед, зной, капель), ‘местность’ (мороз, стужа), ‘интенсивность проявления климатических особенностей’ (безветрие, жарынь, заморозки, зной, мороз, пекло, стужа, сухмень, сухота, сушь, теплынь, холодина, холодюга, штиль), ‘темпоральность’ (ведро, бездождье, гололед, зазимок, зазимье, заморозки, засуха, затишье, мороз, оттепель, ростепель, стужа, тепло, теплота, теплынь, утренник), ‘температура’ (безветрие, гололедица, духота, жар, жара, жарынь, зазимок, зазимье, заморозки, зной, мороз, оттепель, пекло, потепление, похолодание, прохлада, ростепель, свежесть, стужа, сухмень, сухота, сушь, тепло, теплота, теплынь, тишь, утренник, холод, холодина, холодок, холодюга), ‘наличие / отсутствие ветра’ (безветрие, ветер, духота, затишье, ненастье, непогода, тишь, штиль), ‘оптические особенности’ (ведро, ненастье, непогода, облачность, туман), ‘давление’ (безветрие, жар, зной, пекло, сухмень, сухота, сушь), ‘влажность’ (бездождье, ведро, гололедица, дождь, жар, жара, жарынь, засуха, зной, изморось, капель, мокропогодица, мокрость, мокрядь, морось, ненастье, непогода, пекло, пороша, прохлада, слякоть, снег, сухмень, сухость, сухота, сушь, сырость, хлябь, холодок), ‘изменение состояния’ (оттепель, потепление, похолодание, ростепель, снеготаяние), результат’ (засуха, ледостав, оттепель).
Важную роль в процессе функционирования существительных рассматриваемой ЛСГ играют контекстуальные уточнители, которые выражают эмоционально-оценочное восприятие погоды носителями языка, крайнюю степень проявления признака: крепкий мороз (СП, 13.02.1943), испепеляющая жара (ВП, 13.03.2002), жуткая сухость (ВП, 13.09.2003), парная духота зноя (ВП, 07.08.2003).
Контекстуальные уточнители также могут указывать на влияние погоды на организм людей: Жара нас совсем сморила (ВП, 11.02.1999), …Наша поездка подходит к концу. Она доставила всем много приятных минут, потому что рядом была живительная прохлада Волги (ВП, 17.07.1999), Раннее апрельское утро насквозь прохвачено весенней бодрящей свежестью и светом (ВП, 01.04.2000). Воздействие погоды на деятельность людей, в частности на сельскохозяйственную, садоводческую, получает в газетных текстах в большинстве случаев отрицательную оценку: Чуть ли ни каждый день, а то на дню по нескольку раз перепадали дожди. Стояли холода. Все это усложняло работу на севе (СП, 14.06.1941), Майские заморозки нанесли значительный урон садоводам — погибло много завязи (ВП, 04.07.2000).
В процессе функционирования существительных ЛСГ «погода» в их смысловой структуре актуализируются дифференциальные и потенциальные семы ‘причина явления’: Лучистое тепло проворно ломает льды, сгоняя остатки зимы. Спасаясь от солнца, в овраги сбегает с ручьями снег, с ревом затопляя низинные места. Половодье! (ВП, 31.03.2001), Известно, что пауки не переносят сырости, поэтому они, побаиваясь росы, крайне редко выходят на охоту по утрам (ВП, 01.08.2002); ‘начало действия’: наступило тепло (СП, 13.05.1941), Резкое потепление может вызвать бурное таяние, но надо учитывать, что водосброс будет регулироваться многочисленными гидроэлектростанциями (ВП, 25.03.2003); ‘длительный период’: продолжительные оттепели (СП, 25.12.1940), затяжная жара (ВП, 27.07.1999); ‘высокая / низкая степень интенсивности’: крепкий мороз (СП, 08.03.1941), невысокая влажность (ВП, 07.04.1998); ‘переменчивость’: Непродуманные реформы, природные аномалии: то морозы в середине мая, то засуха летом, словно испытывают нас на прочность, только настроение в лучшую сторону медленно, но меняется (ВП, 10.02.2000).
Для существительных ЛСГ «погода», обозначающих температурные явления и отличающихся друг от друга по признаку ‘очень высокая / очень низкая температура’, характерно функционирование в рамках одного предложения. Одна из причин, обусловливающих такую особенность, — негативное отношение носителей языка к подобным явлениям: Морозы и засуха случались и в прежние годы, но такого резкого сокращения площадей люцерны еще не наблюдалось (СП, 09.10.1939), На первый взгляд труд современного работника военного комиссариата не столь тяжел, как служба, скажем, командира мотострелковой роты, до половины дней в году пропадающего на военном полигоне, в стужу, зной и дождь выполняющего свой ратный долг (ВП, 08.04.1998). Одинаковое восприятие подобных погодных условий порождает такие контексты, как Красную Армию <…> не удержали коварные ловушки, минные поля, минированные реки и озера, непроходимые болота, глубокие сугробы и жгучие морозы памятной зимы (СП, 16.04.1941), Уже с октября 1942 года в Сталинграде шел снег. Снега было много, более двух метров, и мороз жег до 25 градусов, а в декабре-январе — до 40-45 (ВП, 31.05.2001). В данном предложении лексема мороз вступает в синтагматические отношения с глаголом жечь, который обычно сочетается со словами, в семной структуре которых выделяется компонент ‘высокая температура’ (ср. солнце жгло, жара жгла). Употребление такого глагола с существительным мороз усиливает образность, передает интенсивность действия. В этом случае использование слов, значения которых могут быть противопоставлены по признаку ‘высокая / низкая температура’, приводит к поиску общих черт у явлений природы. В заголовке статьи «Холодные нули в июльский зной» (ВП, 17.07.2001) употребление одного из слов, обозначающих температурное явление, в прямом значении, а другого — в переносном усиливает контраст, позволяет передать психологическое состояние человека, подчеркнуть несоответствие происходящего обычной реакции организма на жаркую погоду. Обращение к данному приему обусловлено не только особенностью семантики существительных рассматриваемой ЛСГ, но и климатическими условиями, характерными для Нижнего Поволжья: холодная зима, жаркое лето, постоянные перепады температуры. При характеристике в текстах СМИ указанных климатических особенностей подчеркивается то, что они являются нормой, воспринимаются жителями Нижневолжского региона как обычное явление: В условиях Нижнего Поволжья самым серьезным экологическим неблагополучием являются периодические засухи (ВП, 05.06.1999), Для Волгоградской области засуха — не исключение, а природно-климатическая норма (ВП, 17.11.1999), Впереди морозы и «пляска» термометров то на оттепель, то на заморозки (ВП, 02.12.2000). Нередко указание на климатические особенности региона осуществляется при помощи противопоставления погоды, привычной для населения Нижнего Поволжья, климату других городов: Волгоградская жара и московская прохлада (ВП, 27.07.2002).
Слова ЛСГ «погода» способны употребляться в переносных значениях в функции номинации других явлений природы: А на водоемах зимняя засуха — это промерзание водоемов до дна. Для жителей водоемов она так же опасна, как и засуха летняя. После зимней засухи находят весной на берегах мертвых рыб и мертвых лягушек (ВП, 31.01.2003). Существительное засуха приобретает контекстуальное значение «промерзание водоемов до дна, приводящее к гибели живых организмов». Основанием для расширения смысловой структуры слова послужили дифференциальные компоненты ‘обезвоживание’, ‘гибель’, ‘длительность’ исходного ЛСВ «погода, характеризующаяся длительным отсутствием осадков, приводящим к обезвоживанию и гибели растительности» [БТСРС, с. 118]. Прямое, узуальное, и контекстуальное значения связаны также на основе дифференциального признака ‘высокие показатели температуры’: засушливая погода возможна только при очень высокой или очень низкой температуре.
Функционируют субстантивы ЛСГ «погода» и в антропоцентрических значениях. В текстах СМИ встречаются случаи реализации значения «пылкость, страстность, душевный подъем», образованного от главного ЛСВ существительного жар «сильно нагретый, горячий воздух // жара, зной» [БТС, с. 299]: <…> народ <…> с жаром осваивает воздушные просторы (СП, 18.08.1939), Весь жар жизнелюба и эстета он отдает реальному продукту <…>, преклоняясь перед их живой плотью, цветом и объемом (ВП, 19.03.2002). Способность данного субстантива употребляться для характеристики эмоционального, душевного состояния человека обусловлено тем, что оно в обоих значениях передает высокую степень проявления признака, обнаруживает связь с семантикой слова огонь.
Как показывает проведенный анализ, для репрезентации русской языковой картины мира в текстах региональных печатных СМИ используется семантический потенциал существительных, которые в прямых и переносных значениях употребляются в номинативной функции по отношению к погоде. При этом релевантными оказываются семы, указывающие на роль природных явлений в природе и в жизни человека.
Выводы по главе
Для существительных, обозначающих природные явления, характерно как значение предметности, так и значение действия. При их функционировании в публикациях газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» в основном актуализируется семантика процесса, что проявляется в реализации семантических компонентов ‘интенсивность действия’, ‘направление движения’, ‘объект воздействия’, ‘изменчивость’. Предметное значение выражается при помощи сем ‘видимость’, ‘состояние вещества’, ‘температура’, ‘форма’.
В процессе функционирования данных лексических единиц в значении «природные явления» в их смысловой структуре актуализируются семы, выражающие положительное отношение человека к явлениям, которые создают комфортные условия для его жизнедеятельности, оказывают позитивное воздействие на психологическое состояние. Отрицательная коннотация отражена в смысловой структуре существительных, именующих природные процессы, которые негативно влияют на человека, создают препятствия, представляют угрозу для жизни, наносят материальный ущерб.
Анализ употребительности имен существительных рассматриваемой подгруппы в разновременных текстах областных газет показывает, что в публикациях газеты «Сталинградская правда» с помощью переносного использования значений субстантивов, указывающих на природные явления, выражается отрицательное отношение к действительности, которое в основном обусловлено негативным восприятием жизни за рубежом и в царской России. В такой функции прежде всего отмечены существительные, относимые в прямом значении к ЛСГ «оптические явления». В смысловой структуре этих единиц чаще заключена положительная коннотация, когда речь идет о политике советского государства, успехах социалистического строительства, революционных преобразованиях в обществе и т. п. Наибольшая частотность употреблений имен тематической подгруппы «природные явления» характерна для контекстов, содержание которых связано с событиями Великой Отечественной войны (40,1% из 100%). Семантический потенциал данных субстантивов как средство репрезентации языковой картины мира может реализоваться при обозначении процессов и состояний, характерных для социальной сферы (31%), а также изображении жизни в зарубежных странах (19,2%).
Субстантивы тематической подгруппы «природные явления», функционирующие в переносных значениях в текстах газеты «Волгоградская правда», используются для изображения жизни в постсоветском обществе. Такие существительные в большей степени употребляются для описания социальной сферы: душевного и физического состояния человека; его поведения, достижений в области спорта, культуры, науки; различных условий его жизни (68,1% из 100%). Значительно увеличивается частотность использования данных лексических единиц в публикациях, посвященных проблемам экономики (2,7%) — СП; 10,2% — ВП).
Как показывает проведенный анализ, в процессе функционирования рассматриваемых имен релевантными для репрезентации русской языковой картины мира являются семы ‘высокая степень интенсивности’, ‘быстрое протекание во времени’, ‘периодичность’, ‘наличие / отсутствие’, ‘положительное / отрицательное воздействие на объект’. Наибольшую способность к отражению восприятия человеком окружающей действительности обнаруживают единицы ЛСГ «оптические явления», «движение в водном пространстве / потоке» и «ветер».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имена существительные тематической группы «неживая природа» обладают богатым семантическим потенциалом, который позволяет им участвовать в репрезентации русской языковой картины мира.
Анализ структуры значений данных субстантивов и особенностей их функционирования показал, что в их семантике неживая природа представлена как системная организация, отражены признаки, релевантные для вычленения, сопоставления, разграничения в окружающей действительности носителями языка объектов земной, водной, воздушной стихий и явлений.
Слова, именующие природные образования и явления, имеют четкую закрепленность за определенными тематическими подгруппами и лексико-семантическими группами. Однако существующая во внеязыковой действительности взаимосвязь объектов земного, водного, небесного пространств и природных явлений обусловливает способность называющих их субстантивов вступать в парадигматические отношения, иметь в структуре значений разнообразные семантические компоненты, что позволяет одному слову входить в состав нескольких лексико-семантических групп, относящихся к тематической группе «неживая природа». В текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» данная особенность реализуется благодаря актуализации в контексте разных категориально-лексических сем и их конкретизаторов, что приводит к расширению парадигматических связей проанализированных имен. Такой вид отношений развивается и в случае употребления субстантивов в переносных значениях, что сопровождается расширением синтагматических связей. Данный процесс характерен в основном для существительных, функционирующих в публикациях постсоветских СМИ.
Главное место среди субстантивов тематической группы «неживая природа» как средства репрезентации русской языковой картины мира в советских и постсоветских региональных газетных изданиях занимают единицы тематических подгрупп «земные образования» (21,9% — СП; 17,4% — ВП) и «природные явления» (15% — СП; 17,9% — ВП): обозначаемые ими природные объекты и явления тесно связаны с жизнью человека, что также подтверждается количественным превосходством слов, обозначающих земное пространство и природные явления, над существительными тематических подгрупп «водные образования» (10,1% — СП; 10,3% — ВП) и «небесные образования» (3% — СП; 4,4% — ВП).
Анализ функционирования субстантивов, относящихся к тематическим подгруппам «земные образования», «водные образования», «небесные образования», в разновременных изданиях областных газет показал, что в прямых и переносных значениях этих имен релевантными для отражения восприятия носителями языка окружающей действительности являются семы, указывающие на форму, размер, физические свойства, количественные и пространственные характеристики, влияние объектов неживой природы на жизнь человека. Имена тематической подгруппы «природные явления» используются в газетных публикациях для обозначения и характеристики происходящего не только в природе, но и в других сферах действительности, при этом реализуется семантика процесса, что выражается в актуализации таких признаков действия, как интенсивность, длительность, изменчивость, направление.
В значениях «земные образования» и «водные образования» проанализированные существительные употребляются в текстах газет «Сталинградская правда» и «Волгоградская правда» при описании богатств региона и страны, рассмотрении природных объектов с точки зрения их пригодности / непригодности для практического применения, комфортности / опасности для жизни людей. В этом случае в смысловой структуре имен релевантными оказываются оценочные семы (в семной структуре значений данных субстантивов такие компоненты встречаются редко).
При использовании в региональных печатных СМИ существительных для обозначения небесных образований передается представление носителей языка о небесной стихии как среде, в которой созданы необходимые для их жизни условия, возникают атмосферные и оптические явления. Такое восприятие отражается в значениях имен благодаря актуализации сем ‘дыхательная среда’, ‘особенности погоды’, ‘свечение’.
При помощи субстантивов, обозначающих природные явления, в текстах региональных газетных изданий дается характеристика погодно- климатических особенностей Нижнего Поволжья и других регионов. В смысловой структуре данных имен отражается прагматическое отношение к процессам, происходящим в неживой природе. Положительная оценка представлена в значениях существительных, называющих явления, которые создают комфортные условия для жизнедеятельности человека, оказывают позитивное воздействие на его психологическое состояние. Отрицательная коннотация отражена в смысловой структуре субстантивов, обозначающих явления, которые негативно влияют на людей, создают препятствия, представляют угрозу для жизни, наносят материальный ущерб.
Образования и явления, характерные для Нижнего Поволжья, обычно противопоставляются географическим и природно-климатическим особенностям других регионов, воспринимаемым как непривычные, неродные. Особо выделяются жителями региона земные образования, представляющие собой равнинный ландшафт, и водные образования, служащие источниками воды, транспортными линиями, а также объекты водного и земного пространства, имеющие отношение к Сталинградской битве как событию, значимому с культурно-исторической точки зрения. При помощи существительных тематической подгруппы «природные явления» в текстах СМИ акцентируется внимание и на некоторых природных процессах, главным образом на тех, которые характеризуются высокой степенью проявления определенных признаков (очень высокая / очень низкая температура, сильный ветер, низкая влажность, резкие перемены погоды).
Различия русской языковой картины мира, характерной для советского и постсоветского периодов развития общества, отражены в переносных значениях существительных тематической группы «неживая природа».
В разновременных региональных изданиях ведущую роль в отражении представлений человека о действительности играют слова, для значений которых исходными являются лексико-семантические варианты субстантивов тематической подгруппы «земные образования». Но если в текстах газеты «Сталинградская правда» семантический потенциал этих имен служит, главным образом, средством характеристики уровня развития экономики Нижнего Поволжья и других регионов, обозначения объектов сельского хозяйства, промышленности, то в публикациях «Волгоградской правды» он реализуется при изображении не только экономической, но и социальной сферы деятельности общества, что позволяет подчеркнуть статус человека, описать условия, в которых он живет, показать демократические преобразования, состояние культуры, науки, спорта и т. д.
Существительные тематической подгруппы «водные образования» употребляются в областных СМИ 1938—1943 гг. прежде всего для описания условий и образа жизни советского народа, а также событий, происходивших за рубежом. В газетах 1998-2003 гг. данные субстантивы используются для обозначения реалий и интерпретации процессов, относящихся к экономической и социальной сферам жизни постсоветского общества.
Субстантивы тематической подгруппы «небесные образования» реализуют в издании «Сталинградская правда» потенциал переносных значений в основном для выражения социалистической идеологии, символов советской эпохи, формирования у людей представлений о политике советского государства, а в газете «Волгоградская правда» — для обозначения и характеристики социальных субъектов, условий и явлений.
По сравнению с региональной прессой советских времен в газетах рубежа XX—XXI вв. значительно увеличивается употребительность существительных тематических подгрупп «земные образования», «водные образования», «небесные образования» в переносных значениях в контекстах, содержание которых связано с социальной сферой деятельности человека, уменьшается использование данных субстантивов в идеологически ориентированных высказываниях и при описании военных событий.
Имена существительные тематической подгруппы «природные явления» используются в публикациях газеты «Сталинградская правда» в переносных значениях для распространения сведений о политике советского государства, успехах социалистического строительства, революционных преобразованиях в обществе и т. п.; выражения отрицательного отношения к действительности, которое в основном обусловлено негативным восприятием жизни за рубежом и в царской России. Наибольшая частотность употреблений данных имен характерна для контекстов, содержание которых связано с событиями Великой Отечественной войны.
Субстантивы тематической подгруппы «природные явления», функционирующие в переносных значениях в текстах газеты «Волгоградская правда», используются для изображения жизни в постсоветском обществе, в большей степени при описании социальной сферы: душевного и физического состояния человека; его поведения, достижений в области спорта, культуры, науки; различных условий его жизни. Значительно увеличивается частотность употребления данных лексических единиц в публикациях, посвященных проблемам экономики.
Существительные тематической группы «неживая природа» также по- разному используются в переносных контекстуальных значениях: в газете «Сталинградская правда» они реализуют семантический потенциал в основном для изображения военных событий, а в «Волгоградской правде» — для описания социальной сферы жизни общества.
В целом в текстах региональных печатных СМИ 1938-1943 гг. при помощи переносного употребления субстантивов рассмотренной тематической группы передано представление носителей языка о сильном, экономически развитом, заботящемся о своих гражданах государстве, которое резко противопоставлено царской России и зарубежным странам. В публикациях 1998—2003 гг. данные существительные функционируют в переносных значениях для изображения общества, свободного от влияния социалистической идеологии, замечающего в постсоветской действительности как положительные, так и отрицательные стороны, сталкивающегося с социальными, экономическими и политическими проблемами; описания характера, способностей, поведения, особенностей мировосприятия человека постсоветской эпохи.
Проведенное исследование позволило выявить возможности существительных тематической группы «неживая природа» в сфере репрезентации русской языковой картины мира, представлений об окружающей действительности жителей Нижнего Поволжья.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Адмони, В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка [Электронный ресурс] / В. Г. Адмони. — http://www.philology.ru/linguistics1/admoni-79.htm
- Азаренко, Н. А. Концептуализация света и тьмы в языковой картине мира Ф. М. Достоевского (на материале романа «Преступление и наказание») [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н. А. Азаренко. — Тамбов, 2007. — 28 с.
- Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс : учеб. пособие для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений. — М. : Академия, 2004. — 320 с.
- Андреева, И. В. Ценностная картина мира как лингвистическая и философская категория [Электронный ресурс] / И. В. Андреева. — http://tsu.tmb.ru/culturology/journal/6/andreeva2006-2.htm
- Анисимова, Т. В. Стилистические возможности суффиксальных имен существительных (на материале газетно-публицистического стиля) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. В. Анисимова. — Саратов, 1982.- 15 с.
- Апресян, В. Ю. Уступительность в языке [Текст] / В. Ю. Апресян // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянских культур, 2006а. — С. 615-710.
- Апресян, Ю. Д. Избранные труды, том I. Лексическая семантика [Текст] / Ю. Д. Апресян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Языки русской культуры, 1995. — 472 с.
- Апресян, Ю. Д. О Московской семантической школе [Текст] / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. — 2005. — № 1. — С. 3-30.
- Апресян, Ю. Д. Основания системной лексикографии [Текст] / Ю. Д. Апресян // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянских культур, 2006б. — С. 33-160.
- Арутюнова, Н. Д. Наивные размышления о наивной картине мира [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Язык о языке : сб. ст. / под ред. Н. Д. Арутюновой. — М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 7—19.
- Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт [Текст] / Н. Д. Арутюнова. — М.: Наука, 1988. — 341 с.
- Ахматова, О. С. Современные синтаксические теории [Текст] / О. С. Ахматова, Г. Б. Микаэлян. — 2-е изд., стер. — М. : Едиториал УРСС, 2003.-166 с.
- Бабенко, Л. Г. Концепция, структура и основные лексикографические параметры словаря [Текст] / Л. Г. Бабенко // Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. — М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.-С. 16-22.
- Бабенко, Л. Г. Эмотивная лексика в структуре предложения [Текст] / Л. Г. Бабенко // Классы слов в синтагматическом аспекте : сб. науч. тр. / под ред. Л. Г. Бабенко. — Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1988. — С. 145-156.
- Баранов, А. Н. Метафорическая модель фауны в политическом дискурсе эпохи перестройки [Текст] / А. Н. Баранов // Русский язык в научном освещении. — 2005. — № 1. — С. 60-82.
- Безяева, М. Г. О номинативной мотивированности коммуникативных значений [Текст] / М. Г. Безяева // Вестник МГУ. Сер. 9, Филология. — 2005.-№4.-С. 9-41.
- Белецкая, Е. В. Моделирование особенностей конструирования метафоры [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Е. В. Белецкая. -Тверь, 2007.-19 с.
- Белоусова, А. С. Имена лиц и их синтаксические свойства [Текст] / А. С. Белоусова // Слово и грамматические законы языка: Имя /
- В. Лопатин, В. А. Плотникова, А. С. Белоусова, М. С. Суханова,
- Н. Дмитренко. -М.: Наука, 1989. — С. 131-205.
- Белоусова, Е. Г. К вопросу о природе и типологии картин мира [Текст] / Е. Г. Белоусова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Т. Ю. Тамерьян. — Владикавказ : Изд-во СОГУ, 2009. — Вып. XI. — С. 14-19.
- Бельчиков, Ю. А. Из наблюдений над русским литературным языком эпохи Великой Отечественной войны [Текст] / Ю. А. Бельчиков // Филологические науки. — 2000. — № 6. — С. 46-55.
- Беркетова, 3. В. Мотивационные связи в лексике современного русского языка [Текст] / 3. В. Беркетова // Филологические науки. — 2000. -№1,-С. 69-77.
- Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Текст] : учеб. пособие / М. Г. Безяева. — М.: Флинта: Наука, 2009. — 200 с.
- Богданова, Н. В. Лексическая экспликация концепта «Природа» в раннем творчестве И. А. Бунина [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н. В. Богданова. — СПб., 2007. — 19 с.
- Богородицкий, В. А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений) [Текст] / В. А. Богородицкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1907.-271 с.
- Богуславская, О. Ю. Интеллектуальные способности и деятельность человека в зеркале прилагательных [Текст] / О. Ю. Богуславская // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М.: Языки славянских культур, 2006. — С. 471—514.
- Бондарко, А. В. К вопросу о системе анализа аспектов языка и речи в функциональной грамматике [Текст] / А. В. Бондарко // Традиционное и повое в русской грамматике : сб. ст. памяти В. А. Белошапковой / сост. Т.В.Белошапкова, Т.В.Шмелева. — М.: Индрик, 2001. — С. 31-41.
- Бондарко, А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии [Текст] / А. В; Бондарко. — 2-е изд., стер. — М. : Едиториал УРСС, 2001.-207 с.
- Брутян, Г. А. Принцип лингвистической дополнительности [Текст] / Г. А. Брутян // НДВШ. Философские науки. — 1969. — № 3. — С. 52-57.
- Брутян, Г. А. Языковая картина мира и ее роль в познании [Текст] / Г. А. Брутян // Методологические проблемы анализа языка. — Ереван : Изд-во Ереван, ун-та, 1976. — С. 57-64.
- Брысина, Е. В. Метафорическая функция военной лексики (по материалам современной публицистики) [Текст] / Е. В. Брысина // Слово в различных сферах речи : сб. науч. тр. — Волгоград : Изд-во ВГПИ, 1988.-С. 71-79.
- Будагов, Р. А. История слов в истории общества [Текст] / Р. А. Будагов. — М.: Просвещение, 1971. — 270 с.
- Булыгина, Т. В. Проблемы теории морфологических моделей [Текст] / Т. В. Булыгина. -М. : Наука, 1977. — 288 с.
- Буров, А. А. Когниолингвистические вариации на тему современной русской языковой картины мира [Текст] : монография / А. А. Буров. — Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2003. — 361 с.
- Буслаев, Ф. И. Преподавание отечественного языка [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Буслаев. — М. : Просвещение, 1992. — 512 с.
- Вайсгербер, Й. Л. Родной язык и формирование духа [Текст] / пер. с нем., вступ, ст. и коммент. О. А. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Едиториал УРСС, 2004. — 230 с.
- Вайсгербер, Й. Л. Язык и философия [Текст] / Й. Л. Вайсгербер // Вопросы языкознания. — 1993. -№ 2. — С. 114-124.
- Вакарюк, Л. А. Структурно-семантический анализ имен существительных со значением процесса, не мотивированных глаголами (на материале русского языка) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Л. А. Вакарюк. — Черновцы, 1985. — 203 с.
- Варбот, Ж. Ж. Диахронический аспект проблемы языковой картины мира [Текст] / Ж. Ж. Варбот // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы : материалы междунар. конф. (Москва, 8—10 июня 2002 г.) / сост. Н. К. Онипенко. — М. : ИРЯ РАН, 2003. — С. 343-347.
- Васильев, В. П. Лексическая категория «атмосферные осадки» и прототипический характер ее организации [Текст] / В. П. Васильев // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка, Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 20—23 марта 2007 г. : труды и материалы / сост. М. Л. Ремнева, А. А. Поликарпов. — М. : МАКС Пресс, 2007. — С. 109-110.
- Васильченко, С. М. Формально-семантические связи русского имени существительного в семасиологическом и ономасиологическом аспектах [Текст] : учеб. пособие / С. М. Васильченко. — Орел : Изд-во Орловской государственной телерадиовещательной компании, 1996. — 196 с.
- Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков [Текст] / А. Вежбицкая ; пер. с англ. А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 780 с.
- Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая ; пер. с англ.; отв. ред. М. А. Кронгауз. — М. : Русские словари, 1997. — 416 с.
- Вендина, Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм) [Текст] : монография / Т. И. Вендина. — М.: Индрик, 1998. — 240 с.
- Вендина, Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка [Текст] : монография / Т. И. Вендина. — М : Индрик, 2002. — 336 с.
- Виноградов, В. В. Лексикология и лексикография. Избранные труды [Текст] / В. В. Виноградов. — М.: Наука, 1977. — 312 с.
- Виноградов, В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) [Текст] / В. В. Виноградов. — 2-е изд. — М. : Высш. школа, 1972. — 614 с.
- Волохина, Г. А. Синтаксические концепты русского простого предложения [Текст] : монография / Г. А. Волохина, 3. Д. Попова. — Воронеж, 1999. — 131 с.
- Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки [Текст] / Е. М. Вольф. -М.: Наука, 1985.-228 с.
- Всеволодова, М. В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка [Текст] / М. В. Всеволодова // Вопросы языкознания. — 2009.-№3.-С. 76-99.
- Гак, В. Г. Лексическое значение слова [Текст] / В. Г. Гак // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. -М.: Сов. энциклопедия, 1990. — С. 261-263.
- Гак, В. Г. Семантическое поле конца [Текст] / В. Г. Гак // Логический анализ языка Семантика начала и конца / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М. : Индрик, 2002. — С. 50-55.
- Глазунова, О. И. Логика метафорических преобразований [Электронный ресурс] / О. И. Глазунова. — http://www.philology.ru/linguistics1/glazunova-00.htm.
- Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию [Текст] / И. Б. Голуб. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 432 с.
- Гофман, Т. В. Концептуализация пространства в семантике предлогов (теоретико-экспериментальное исследование предлогов над, наверху, поверх, сверх, выше, свыше) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. В. Гофман. — М., 2005. — 28 с.
- Гришаева, Л. И. Картина мира как проблема гуманитарных наук [Текст] / Л. И. Гришаева, 3. Д. Попова // Картина мира и способы ее репрезентации : науч. докл. конф. «Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование» (Курск, 21—24 апреля 2003 г.) / ред. Л. И. Гришаева, М. К. Попова — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. — С. 13-38.
- Гришина, Н. В. Концеиг ВОДА в языковой картине мира (на основе номинативного и метафорического полей русского языка XI—XX веков) : дис. … канд. филол. наук / Н. В. Гришина. — Саратов, 2002. — 210 с.
- Гумбольдт, Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию [Текст] / Вильгельм фон Гумбольдт ; пер. с нем. под ред., с предисл. Г. В. Рамишвили. — М.: Прогресс, 1984. — 397 с.
- Гураль, С. К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения [Текст] / С. К. Гураль // Язык и культура. — 2008. — №1.-С. 14-21.
- Давыдкина, Н. А. Наречия с семантикой незначительности признака: семантический, грамматический и прагматический аспекты [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н. А. Давыдкина. — Самара, 2005. — 166 с.
- Денисенко, В. Н. Семантическое поле как функция [Текст] / В. Н. Денисенко // Филологические науки. — 2002. — № 4. — С. 44-52.
- Добросклонская, Т. Г. Лингвистические способы выражения идеологической модальности в медиатексгах [Текст] / Т. Г. Добросклонская // Вестник МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2009. — № 2. — С. 85-94.
- Добросклонская, Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов [Текст] / Т. Г. Добросклонская // Вестник МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2005. — № 3. — С. 38-54.
- Дубынина, Н. В. Проблема разграничения полисемии и омонимии в двуязычной лексикографии (из истории французско-русской лексикографии) [Текст] / Н. В. Дубынина // Филологические науки. — 2005. -№3.- С. 69-79.
- Еремеева, С. А. Способы синтаксической мотивации (на материале романов Л. Н. Толстого) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. А. Еремеева. — М, 2003. — 22 с.
- Еремина, О. С. Переносное предикативно-характеризующее значение имени существительного в современном русском языке: лексико- синтаксический аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / О. С. Еремина. — Волгоград, 2004. — 24 с.
- Ермакова, О. П. Семантические процессы в лексике [Текст] / О.П.Ермакова // Русский язык конца XX столетия (1985—1995) / отв. ред. Е. А. Земская. — 2-е изд. — М. : Языки русской культуры, 1996.-С. 32-66.
- Жмурко, О. И. От автора [Текст] / О. И. Жмурко // Лексика природы: Опыт тематического словаря говоров Ивановской области / О. И. Жмурко. — Иваново : Изд-во Иван. гос. ун-та. — С. 4-10.
- Зализняк, Анна А. Заметки о метафоре [Текст] / Анна А. Зализняк // Слово в тексте и в словаре : сб. ст. к семидесятилетию акад. Ю. Д. Апресяна / отв. ред. Б. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 82-90.
- Зализняк, Анна А. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Текст] : сб. ст. / Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. — М. : Языки славянской культуры, 2005. — 544 с.
- Зализняк, Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления [Текст] : дис. … д-ра филол. наук / Анна А. Зализняк. — Москва, 2002. — 461 с.
- Заметалина, М. Н. Бытийность в функционально-семантическом пространстве русского языка (диахрония и синхрония) [Текст] : автореф. дис. … д-ра филол. наук / М. Н. Заметалина. — Волгоград, 2002.-44 с.
- Заметалина, М. Н. К проблеме описания функционально- семантического поля в синхронии и диахронии [Текст] / М. Н. Заметалина // Филологические науки. — 2002. — № 5. — С. 89-93.
- Земская, Е. А. Введение [Текст] / Е. А. Земская // Русский язык конца XX столетия (1985—1995) / отв. ред. Е. А. Земская. — 2-е изд. — М. : Языки русской культуры, 1996. — С. 9—31.
- Земская, Е. А. Активные процессы современного словопроизводства [Текст] / Е. А. Земская // Русский язык конца XX столетия (1985—1995) / отв. ред. Е. А. Земская. — 2-е изд. — М. : Языки русской культуры, 1996.-С. 90-141.
- Земская, Е. А. Словообразование как деятельность [Текст]: монография / Е. А. Земская. — М.: Наука, 1992. — 221 с.
- Иванов, Вяч. Вс. Славянские моделирующие семиотические системы (Древний период) [Текст] : монография / Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. -М.: Наука, 1965.-246 с.
- Ильин, Д. Ю. Функционально-семантическая характеристика топонимической лексики со значением ‘водное пространство’ в языке региона [Текст] / Д. Ю. Ильин // Вестник ВолГУ. Сер. 2, Языкознание. — Вып. 6. — С. 27-31.
- Ильин, Д. Ю. Языковая картина мира в понимании Д. С. Лихачева и ее отражение в лексике [Текст] / Д. Ю. Ильин, А. В. Цивилева // Модернизация и традиции — Нижнее Поволжье как перекресток культур : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Д. С. Лихачева (Волгоград, 28-30 сентября 2006 г.) / Адм. Волгогр. обл., ВолГУ, междунар. благотвор. фонд им. Д. С. Лихачева. — СПб., Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. — С. 579-587 .
- Ильин, Д. Ю. Языковая картина мира и ее отражение в топонимике региона [Текст] / Д. Ю. Ильин // Личность. Культура. Общество. Т. Ю.-Вып. 5-6 (44-45).-С. 464-471.
- Ицкович, В. А. Норма. Литературный язык. Культура речи [Текст] / В. А. Ицкович // Актуальные проблемы культуры речи. — М. : Наука, 1970.-С. 40-103.
- Каде, Т. X. Научная картина мира как модель анализа языковой картины мира [Текст] / Т. X. Каде // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. Т. В. Симашко. — Архангельск : Изд-во Помор, гос. ун-та, 2002. — С. 61—64.
- Казыдуб, Н. Н. Дискурсивное пространство как фрагмент языковой картины мира (теоретическая модель) : монография. — Иркутск, 2006. — 216 с.
- Кайгородова, И. Н. Проблемы синтаксической идиоматики (на материале русского языка) [Текст] : монография / И. Н. Кайгородова. — Астрахань : Изд-во АГПУ, 1999.-248 с.
- Калашникова, Л. В. Метафора как механизм когнитивно-дискурсивного моделирования действительности (на материале художественных текстов) [Текст] : дис. … д-ра филол. наук / Л. В. Калашникова. — Орел, 2006.-409 с.
- Калинин, А. А. Семантика и предикативное функционирование предложно-падежных форм существительных в современном русском языке [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук/ А. А. Калинин. — М., 2003.-23 с.
- Калинина, Л. В. К вопросу о критериях выделения и отличительных приметах лексшсо-граммагических разрядов имен существительных [Текст] / Л. В. Калинина // Вопросы языкознания. — 2007. — № 3. — С. 55-70.
- Карасик В. И. О категориях лингвокультурологии [Текст] / В. И. Карасик // Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности : сб. науч. тр. — Волгоград : Перемена, 2001. — С. 3—16.
- Карасик, В. И. Культурные доминанты в языке [Текст] / В. И. Карасик // Языковая личность: культурные концепты : сб. науч. тр. — Волгоград- Архангельск : Перемена, 1996. — С. 3-25.
- Караулов, Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка [Текст] / Ю. Н. Караулов. — М. : Наука, 1981. — 366 с.
- Карпова, Н. С. Роль метафоры в развитии лексико-семантической системы языка и языковой картины мира (на материале английских и русских неологизмов) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н. С. Карпова. — Саратов, 2007. —21 с.
- Картины русского мира: аксиология в языке и тексте [Текст] : монография / отв. ред. 3. И. Резанова. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. -354 с.
- Касьянова, В. М. Русская метеорологическая лексика (история и функционирование) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / В. М. Касьянова. — М., 1984. — 259 с.
- Кацнельсон, С. Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия [Текст] / отв. ред. JI. Ю. Брауде. — М. : Языки славянской культуры, 2001.-864 с.
- Князев, Ю. П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе [Текст] / Ю. П. Князев. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 704 с.
- Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика [Текст] : учеб. для студ. вузов / И. М. Кобозева. -М.: Едиториал УРСС, 2000. — 350 с.
- Кобозева, И. М. Семантические проблемы анализа политической метафоры [Текст] / И. М. Кобозева // Вестник МГУ. Сер. 9, Филология. -2001.-№ 6.-С. 132-149.
- Ковлакас, Е. Ф. Концепт «гора» как образ «духовного ориентира» народа (на примере оронимов Кубани и Северного Кавказа) [Текст] / Е. Ф. Ковлакас // Вестник Адыгейского государственного университета. — 2008. — Вып. 8. — С. 28-34.
- Кодзасов, С. В. Фонетическая символика пространства (семантика долготы и краткости) [Текст] / С. В. Кодзасов // Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 227—238.
- Кожин, А. Н. Лексико-стилистические процессы в русском языке периода Великой Отечественной войны [Текст] : монография / Н. Кожин. — М.: Наука, 1985. — 328 с.
- Колшанский, Г. В. Объективная картина мира в познании и языке [Текст] / Г. В. Колшанский. — М.: Наука, 1990. — 103 с.
- Комлев, Н. Г. Слово, денотация и картина мира [Текст] / Н. Г. Комлев // Вопросы философии. — 1981. — № 11. — С. 25—37.
- Кондрашова, О. В. Характеризующие существительные в современном русском языке (функционально-семантический аспект) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / О. В. Кондрашова. — Л., 1985. — 220 с.
- Кормилицына, М. А. О некоторых активных процессах в языке современной публицистики [Текст] / М. А. Кормилицына // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы : материалы междунар. конф. (Москва, 8—10 июня 2002 г.) / сост. Н. К. Онипенко. — М. : ИРЯ РАН, 2003.-С. 418-420.
- Корнилов, О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов [Текст] : монография / О. А. Корнилов. — 2-е изд., испр. и доп. -М. : ЧеРо, 2003. — 349 с.
- Косова, М. В. Семантика отглагольных именных образований в народной речи [Текст] / М. В. Косова // Вопросы краеведения : материалы XVIII и XIX краевед, чтений / редкол.: И. О. Тюменцев (отв. ред.) [и др.]. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. — Вып. 11. — С. 489-493.
- Костомаров, В. Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики [Текст] / В. Г. Костомаров. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 268 с.
- Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа [Текст] / В. Г. Костомаров — СПб. : Златоуст, 1999.-320 с.
- Котелова, Н. 3. Значение слова и его сочетаемость (к формализации в языкознании) [Текст] / Н. 3. Котелова. — Л : Наука, 1975. — 164 с.
- Кошарная, С. А. Лингвокультурологическая реконструкция мифологического комплекса «Человек — Природа» в русской языковой картине мира [Текст] : дис. … д-ра филол. наук / С. А. Кошарная. — Белгород, 2003. — 452 с.
- Кошелев, А. Д. Еще раз о значении имени существительного [Текст] / А. Д. Кошелев // Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. — М. : Языки русской культуры, 2000.-С. 38-46.
- Красильникова, Е. В. Имя существительное в русской разговорной речи: функциональный аспект [Текст] / Е. В. Красильникова. — М. : Наука, 1990.-123 с.
- Красильникова, Е. В. Инфинитив — имя существительное (К соотношению их функций в подсистеме русской разговорной речи) [Текст] / Е. В. Красильникова // Проблемы структурной лингвистики 1984 : сб. науч. тр. — М.: Наука, 1988. — С. 112-124.
- Кубрякова, Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности [Текст] / Е. С. Кубрякова — М.: Наука, 1986. — 158 с.
- Кубрякова, Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира [Текст] / Е. С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, И. Постовалова и др. -М. : Наука, 1988. — С. 141-172.
- Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений: семантика производного слова [Текст] /Е. С. Кубрякова. — М.: Наука, 1981. —200 с.
- Кубрякова, Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении [Текст] / Е. С. Кубрякова. — М.: Наука, 1978. — 116 с.
- Кузнецова, H.H. Метафора как одно из основных средств создания экспрессивности [Текст] / Н. Н. Кузнецова // Филологические науки. — 2009. -№ 1.-С. 101-108.
- Кузнецова, Э. В. Введение [Текст] // Лексико-семантические группы русских глаголов / под ред. Э. В. Кузнецовой. — Изд-во Иркут. ун-та, 1989а.-С. 4-23.
- Кузнецова, Э. В. Лексикологію русского языка [Текст] : учеб. пособие / Э. В. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. шк., 19896. — 216 с.
- Кукса, Т. А. Метафорические модели как компонент идеографического поля (на материале слов, определяющих физическое состояние человека) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Т. А. Кукса. — Ростов н/Д, 2007.-224 с.
- Купина, Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции [Текст] : монография / Н. А. Купина. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та ; Пермь : ЗУУНЦ, 1995. — 144 с.
- Курашкина, Н. А. Семантическое поле «звук» как репрезентация звукосферы в языке (на материале английского, французского и русского языков) [Текст] / Н. А. Курашкина // Вестник Башкирского университета. — 2007. — № 3. — С. 78-80.
- Курбатова, С. А. Образы и представления мира природы в сознании русской языковой личности [Текст] : дис. … канд. филол. наук / С. А. Курбатова. — Москва, 2000. — 175 с.
- Кустова, Г. И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений [Текст] / Г. И. Кустова // Вопросы языкознания. — 2000. — № 4. — С. 85-109.
- Лагутина, О. В. Понятие географической и гидрографической терминологии [Текст] / О. В. Лагутина // Русская речь. — 2005. — № 2. — С. 112-118.
- Лайонз, Дж. Лингвистическая семантика: введение [Текст] / Джон Лайонз ; пер. с англ. В.В.Морозова, И. Б. Шатуновского ; под ред. И. Б. Шатуновского. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — 398 с.
- Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем [Текст] / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. А. Н. Баранова, А. В. Морозовой ; под ред. и предисл. А. Н. Баранова. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
- Левонтина, И. Б. Отсутствие цели в действиях человека [Текст] / И. Б. Левонтина // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянских культур, 2006. — С. 195-216.
- Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века [Текст] / отв. ред. Ф. П. Филин. -М.: Наука, 1981. — 359 с.
- Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д. С. Лихачев // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / под ред. В. П. Нерознака. — М. : Academia, 1997. — С. 280-287.
- Логинова, И. М. Интонационное выражение семантики ‘начала’ и ‘конца’ в русском высказывании [Текст] / И. М. Логинова // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — М. : Индрик, 2002. — С. 321-333.
- Лопушанская, С. П. Изменение семантической структуры русских бесприставочных глаголов движения в процессе модуляции [Текст] // Русский глагол : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. С. П. Лопушанская. — Волгоград : Изд-во ВПИ, 1988. — С. 5-19.
- Лопушанская, С. П. Отражение социально-исторических процессов в лексике нижневолжских говоров // Вопросы краеведения : материалы XVIII и XIX краевед, чтений / редкол.: И. О. Тюменцев (отв. ред.) [и др.]. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. — Вып. 11. — С. 409-413.
- Лопушанская, С. П. Семантическая модуляция как речемыслительный процесс [Текст] // Вестник ВолГУ. Сер. 2, Языкознание. — 1996. — Вып. 1.-С. 6-13.
- Лось, А. Л. Концептуализация светлого в русской языковой картине мира: некоторые особенности воспринимающего субъекта [Текст] / А. Л. Лось // Семантический анализ единиц языка и речи: процессы концептуализации и структура значения. Вторые чтения памяти О. Н. Селиверстовой. -М. : МГЛУ, 2006. — С. 168-173.
- Лукина, Н. Ю. Роль грамматических средств в формировании языковой картины мира (На материале грамматических категорий имени существительного в русском и английском языках) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Н. Ю. Лукина — Ярославль, 2003. — 219 с.
- Максимчук, Н. А. Нормативно-научная картина мира русской языковой личности в комплексном лингвистическом рассмотрении. Часть 1. [Текст] : монография / Н. А. Максимчук. — Смоленск : Изд-во СГГГУ, 2002. — 184 с.
- Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В А. Маслова — М. : ACADEMIA, 2007. — 204 с.
- Мельников, Т. Б. Системный подход к лингвистике [Текст] / Т. Б. Мельников // Системные исследования. 1972 : ежегодник. — М. : Наука, 1973.-с. 183-204.
- Мельчук, Я А Опыт теории лингвистических моделей «смысл-текст» [Текст] / И. А. Мельчук. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 346 с.
- Милованова, М. В. Модель посессивных отношений в русском языке (на материале глаголов) [Текст] / М. В. Милованова // Мир и язык : сб. науч. ст. — Кемерово : Графика, 2005. — Вып. 6. — С. 23—31.
- Милославский, И. Г. Об идеографической морфологии русского языка [Текст] / И. Г. Милославский // Известия АН СССР. Серия литературы и языка -1979. — № 5. — Т. 38. — С. 414-424.
- Мухачёва, А. М. Пространственные метафоры как фрагмент русской языковой картины мира [Текст] : дис. … канд. филол. наук / А. М. Мухачёва — Томск, 2003. — 299 с.
- Нильсен, Е. А. Полевой подход к изучению лексики как метод описания отдельных фрагментов национальной языковой картины мира [Текст] / Е. А. Нильсен // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира : материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. Т. В. Симашко. — Архангельск : Изд-во Помор, гос. ун-та, 2002. — С. 80-81.
- Ннфанова, Т. С. Сопоставительное исследование английской и французской национальной языковой картины мира (на материале денотативных классов из сферы «природа») [Текст] : дис. … д-ра филол. наук / Т. С. Нифанова. — Северодвинск, 2005. — 385 с.
- Новиков, Л. А. Сема [Текст] / Л. А. Новиков // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Сов. энциклопедия, 1990. — С. 437-438.
- Новиков, Л. А. Семантика русского языка [Текст] : учеб. пособие для ун-тов / Л. А. Новиков. — М.: Высш. школа, 1982. —272 с.
- Новикова, Н. С. Многомирие в реалии и общая типология языковых картин мира [Текст] / Н. С. Новикова, Н. В. Черемисина // Филологические науки. — 2000. — № 1. — С. 40-49.
- Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка [Текст] / отв. ред. Б. А. Серебреников. — М.: Наука, 1970. — 407 с.
- Ольховикова, Ю. А. Концепт «ветер» как средство метафорического моделирования политической действительности СМИ Германии и США [Текст] / Ю. А. Ольховикова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2007. — № 50. — Вып. 21. — С. 116-122.
- Падучева, Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива) [Текст] / Е. В. Падучева. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 464 с.
- Падучева, Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений [Текст] /Е. В. Падучева. -М.: Наука, 1985.-272 с.
- Падучева, Е. В. Динамические модели в семантике лексики [Текст] / Е. В. Падучева. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 608 с.
- Падучева, Е. В. Модальность сквозь призму дейксиса [Текст] / Е. В. Падучева // Традиционное и новое в русской грамматике : сб. ст. памяти В. А. Белошапковой / сост. Т. В. Белошапкова, Т. В. Шмелева — М.: Индрик, 2001. — С. 184-197.
- Панасова, Е. П. Концепт СОЛНЦЕ в русском языке и речи [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Е. П. Панасова. — Екатеринбург, 2007. — 194 с.
- Панфилов, В. 3. Взаимоотношение языка и мышления [Текст] / В. 3. Панфилов. — М. : Наука, 1971. — 231 с.
- Пименова, М. В. Концепт сердце: Образ. Понятие. Символ [Текст] / М. В. Пименова. — Кемерово : Изд-во КемГУ, 2007. — 500 с.
- Покровская, Е. В. Прагматика современного газетного текста [Текст] / Е. В. Покровская // Русская речь. — 2006. — № 3. — С. 81-87.
- Попова, 3. Д. Когнитивная лингвистика [Текст] / 3. Д. Попова, И. А. Стернин. -М. : ACT : Восток-Запад, 2007.-314 с.
- Попова, З. Д. Некоторые приемы выявления национальной специфики языка [Текст] / 3. Д. Попова, И. А. Стернин // Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002.-С. 52-58.
- Попова, З. Д. Язык и сознание: теоретические разграничения и понятийный аппарат [Текст] / 3. Д. Попова, И. А. Стернин // Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002. — С. 8-50.
- Постовалова, В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека [Текст] / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. -М.: Наука, 1988. — С. 8-69.
- Потебня, А. А. Мысль и язык [Текст] / А. А. Потебня // В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Часть I. -М.: Изд-во Мин-ва Просвещения РСФСР, 1960. — С. 117-123.
- Принципы и методы семантических исследований [Текст] / Академия наук СССР. Институт языкознания ; под ред. В.Н.Ярцевой. — М. : Наука, 1976.-380 с.
- Протченко, И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи: социолингвистический аспект [Текст] / И. Ф. Протченко. — 2-е изд., доп. -М.: Наука, 1985. — 351 с.
- Пшенкин, А. А. Метафорический образ СССР / России в американском и российском политическом дискурсе [Электронный ресурс] / А. А. Пшенкин. — http://www.philology.ru/linguistics1/pshenkin-06.htm
- Радченко, О. А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен [Текст] / О. А. Радченко, Н. А. Закуткина // Вопросы языкознания. — 2004.-№6.-С. 25-48.
- Радченко, О. А. Язык как миросозидание : лингвофилософская концепция неогумбольдтианства [Текст] / О. А. Радченко. — 2-е изд., испр. и доп. -М.: Едиториал УРСС, 2005. — 310 с.
- Ракитина, О. Н. Концепт МОРЕ в русском фольклоре [Текст] / О. Н. Ракитина // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : науч. изд. / под ред. И. А. Стернина. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2001. — С. 119-121.
- Рахилина, Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость [Текст] / Е. В. Рахилина. — М. : Русские словари, 2000. — 416 с.
- Рахманова, Л. И. Метонимия в газете [Текст] / Л.И.Рахманова // Значение и смысл слова: Художественная речь, публицистика / под ред. Д. Э. Розенталя. -М.: Изд-во МГУ, 1987. — С. 138-144.
- Ревзин, И. И. Структура языка как моделирующей системы [Текст] / И. И. Ревзин. — М.: Наука, 1978. — 287 с.
- Резанова, 3. И. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: ключевые концепты. Часть 1 [Текст] / 3. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин. — Воронеж : РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. — 210 с.
- Розина, Р. И. Устранение преграды (семантика и аспектуальное поведение группы русских глаголов) [Текст] / Р. И. Розина // Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. — М. : Языки русской культуры, 2000.-С. 67-77.
- Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира [Текст] / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. — М. : Наука, 1988.-216 с.
- Романенко, А. П. Русский язык и советская культура [Текст] / А. П. Романенко // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы: материалы междунар. конф. (Москва, 8—10 июня 2002 г.) / сост. Н. К. Онипенко. — М.: ИРЯ РАН, 2003. — С. 426-429.
- Рудыкина, Е.С. Наименования жилых помещений в донских говорах [Текст] / Е. С. Рудыкина // Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков : сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Туликова. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. — С. 219-225.
- Румянцева, А. В. Человек и коллектив: соотношение номинаций лица и совокупности лиц в современном русском языке [Текст] / А. В. Румянцева // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов : материалы II Междунар. науч. конф. (Волгоград, 24-26 апр. 2007 г.) : в 2 т. Т. 1 / ВолГУ ; редкол.: О. В. Иншаков (пред.) [и др.]. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. — С. 385-390.
- Русская грамматика [Текст] : в 2 т. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. -М.: Наука, 1980. — 784 с.
- Русская грамматика [Текст] : в 2 т. Т. 2: Синтаксис / гл. ред. Н. Ю. Шведова. — М.: Наука, 1980. — 712 с.
- Рябцева, Н. К. Размер и количество в языковой картине мира [Текст] / Н. К. Рябцева // Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред. H. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. — М. : Языки русской культуры, 2000.-С. 108-116.
- Савельева, О. С. Формальные и содержательные свойства грамматической категории рода существительных [Текст] : дис. … канд. филол. наук / О. С. Савельева. — Челябинск, 2006. — 187 с.
- Санников, В. 3. О семантике категорий лица и числа (по данным языковой игры) [Текст] // Традиционное и новое в русской грамматике : сб. ст. памяти В. А. Белошапковой / сост. Т. В. Белошапкова, Т. В. Шмелева. -М. : Индрик, 2001. — С. 143-154.
- Сафонов, А. А. Стилистика газетных заголовков [Текст] // Стилистика газетных жанров / под ред. Д. Э. Розенталя. — М. : Изд-во МГУ, 1981. — С. 205-228.
- Селеменева, О. А. Безличные предложения со значением состояния природы и окружающей среды в современном русском языке: структура, семантика и функционирование [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / О. А. Селеменева. — Елец, 2006. — 19 с.
- Селищев, А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком (1917—1926) [Текст] / А. М. Селищев. — 2-е изд., стер. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 248 с.
- Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи [Текст] / Э. Сепир ; пер. с англ.; общ. ред. и вступ. А. Е. Кибрика. — М. : Прогресс : Универс, 1993. — 656 с.
- Серебренников, Б. А. Как происходит отражение картины мира в языке? [Текст] / Б. А. Серебренников // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. — М. : Наука, 1988. — С. 87-107.
- Симашко, Т. В. К вопросу о фрагментации языковой картины мира [Текст] / Т. В. Симашко // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира : материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. Т. В. Симашко. — Архангельск : Изд-во Помор, гос. ун-та, 2002. — С. 52—54.
- Скляревская, Г. Н. К вопросу о метафоре как объекте лексикографии [Текст] / Г. Н. Скляревская// Современная русская лексикография 1981. — Л. : Наука, 1983. — С. 53-63.
- Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка [Текст] / Г. Н. Скляревская. — СПб.: Наука, 1993. — 150 с.
- Скляревская, Г. Н. Опыт системного описания языковой метафоры в словаре [Текст] / Г. Н. Скляревская // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре : сб. ст. / отв. ред. Ю. Н. Караулов. -М.: Наука, 1988. — С. 63-67.
- Скорик, A. C. Место частиц в системе средств выражения адресованности [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / А. С. Скорик. -М., 2005.-20 с.
- Смирницкая, О. А. Наименования космологических объектов в мифе и языке [Текст] / О. А. Смирницкая // Вестник МГУ. Сер. 9, Филология. — 2002.-№1.-С. 7-21.
- Солганик, Г. Я. Лексика газеты [Текст] : учеб. пособие / Г. Я. Солганик М. : Высш. шк., 1981. — 112 с.
- Солганик, Г. Я. О закономерностях развития языка газеты в XX веке [Текст] / Г. Я. Солганик // Вестник МГУ. Сер. 10, Журналистика. — 2002.-№2.-С. 39-53.
- Солнцев, В. М. Язык как системно-структурное образование [Текст] / В. М. Солнцев. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1977. — 340 с.
- Стеблин-Каменский, М. И. К вопросу о частях речи [Электронный ресурс] / М. И. Стеблин-Каменский. http://www.philology.ru/linguistics1/steblin-74b.htm
- Степанов, IO. С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика) [Текст] / Ю. С. Степанов. — 3-е изд., стер. — М. : Едиториал УРСС, 2004.-360 с.
- Степанов, Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики [Текст] / Ю. С. Степанов. — 4-е изд., стер. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 310 с.
- Степанова, 3. М. Роль предлогов в формировании лингвокультурологических особенностей пространственных концептов (На материале русского и французского языков) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / 3. М. Степанова. — Ульяновск, 2006. — 21 с.
- Суспицына, И. Н. Метеорологическая лексика в говорах Русского Севера [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / И. Н. Суспицына. — Екатеринбург, 2000. — 20 с.
- Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты [Текст] / В. Н. Телия. — М. : Языки русской культуры, 1996. —288 с.
- Телия, В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира [Текст] / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. — М.: Наука, 1988. — С. 173-204.
- Теория метафоры [Текст] / под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — 512 с.
- Теория познания [Текст]. В 4 т. Т. 2. Социально-культурная природа познания / АН СССР. Ин-т философии ; под ред. В. А. Лекторского, Т. И. Ойзермана — М.: Мысль, 1991.-478 с.
- Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие / С. Г. Тер-Минасова — М.: Слово, 2000. — 624 с.
- Толстая, С. М. Язык и культура и язык культуры [Текст] / С. М. Толстая // Живая старина — 2004. — № 1. — С. 4-7.
- Трофимова, У. М. О некоторых аспектах проявления категории абстрактность — конкретность в языке и сознании [Текст] / У. М Трофимова // Семантический анализ единиц языка и речи: процессы концептуализации и структура значения. Вторые чтения памяти О. Н. Селиверстовой. -М.: Изд-во МГЛУ, 2006. — С. 304-313.
- Тупикова, Н. А. Функции глагольной лексики в форме инфинитива в русской демократической публицистике середины XIX в. [Текст] / Н. А. Тупикова. — Toran : Universitet Mikolaja Kopernika, 1988. —161 с.
- Тупикова, H.A. Язык региона как объект научного исследования: задачи и перспективы [Текст] / Н. А. Тупикова // Теоретические и лингводидакгические проблемы исследования русского и других славянских языков : сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Тупикова. — Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. — С. 185-197.
- Тупикова, Н. А. Комбинаторное соотношение функций сообщения и воздействия в русской демократической публицистике середины XIX века [Текст] / Н. А. Тупикова // Русский глагол в сопоставительном освещении. Парадигматические и синтагматические отношения : межвуз. науч. сб. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. — С. 66-72.
- Уорф, Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку [Текст] / Б. Л. Уорф //Новое в лингвистике. -М., 1960. — Вып. 1. — С. 135-168.
- Урбанович, Г. И. Мотивационные модели и диахронический аспект изучения русской языковой картины мира (лексико-семантическое поле «судьба», «счастье», «удача») [Текст] / Г. И. Урбанович // Русский язык в научном освещении. -2005.-№ 2 (10). — С. 190-205.
- Урысон, Е. В. Логическая структура полисемии и ее реализация (слово слякоть в системе языка) [Текст] / Е. В. Урысон // Русский язык в научном освещении. — 2005. -№ 2 (10). — С. 87-120.
- Урысон, Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике [Текст] : монография / Е. В. Урысон. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 224 с.
- Урысон, Е. В. Семантика величины [Текст] / Е. В. Урысон // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М.: Языки славянских культур, 2006. — С. 711—758.
- Уфимцева, А. А. Опыт изучения лексики как системы [Текст] / А. А. Уфимцева-М. : Едиториал УРСС, 2004. -288 с.
- Уфимцева, А. А. Роль лексики в познании человеком действительности
и в формировании языковой картины мира [Текст] / А. А. Уфимцева // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. — М. : Наука, 1988.-С. 108-140. - Федорова, И. Р. История русского литературного языка [Текст] / И. Р. Федорова : учеб. пособие. — Калининград : Изд-во РГУ, 2008. — 189 с.
- Филин, Ф. П. Очерки по теории языкознания [Текст] / Ф. П. Филин. — М : Наука, 1982. — 336 с.
- Флягина, М. В. К ареально-семантической характеристике лексики горного рельефа в донских говорах [Текст] / М. В. Флягина // Филологический вестник Ростовского государственного университета. — 2005. — №2. — С. 42-47.
- Фролова, О. Е. Переносные значения названий животных в толковых словарях (антропоцентрический аспект) [Текст] / О. Е. Фролова // Русский язык в научном освещении. — 2005: — № 2. — С. 137—158.
- Хамитова, Э. Р. Концептуальная метафора «природа — человек» как объект лингвокультурологического исследования (на материале творчества поэтов ХIХ века) [Текст] / Э. Р. Хамитова // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2007 г.) : труды и материалы / сост. М. Л. Ремнёва, А. А. Поликарпов. — М. : МАКС Пресс, 2007. — С. 510.
- Хачецукова, 3. К. Лингвориторические параметры советского официального дискурса периода Великой Отечественной войны (на материале передовых статей газеты «Правда») [Текст] : дис. … канд. филол. наук / 3. К. Хачецукова. — Сочи, 2007. — 213 с.
- Хохлова, Н. В. Лексическое значение и внутренняя форма как способы концептуализации мира природы (на материале говоров Архангельской области) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Н. В. Хохлова. — Архангельск, 2004. — 380 с.
- Цзяхуа, Чжан. Аспектуальные семантические компоненты в значении имен существительных в русском языке [Текст] / Чжан Цзяхуа // Вопросы языкознания. — 2007. — № 1. — С. 27-43.
- Цивилева, А. В. Антропоморфные и антропоцентрические значения существительных, репрезентирующих природные образования и явления [Текст] / А. В. Цивилева // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. — 2009. — № 27 (165). — Вып. 34. — С. 155-159.
- Цивилева, А. В. Функционирование существительных тематической группы «неживая природа» в газетных статьях, посвященных Сталинградской битве / А. В. Цивилева // Стрежень : научный ежегодник / под ред. М. М. Загорулько. — Волгоград : Издатель, 2008. — Вып. 6.-С. 238-240.
- Черникова, Н. В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии [Текст] / Н. В. Черникова // Филологические науки. — 2001. — №1. — С. 82-90.
- Чудакова, Н. М. Концептуальная область «неживая природа» как источник метафорической экспансии в дискурсе российских средств массовой информации (2000-2004 гг.) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Н. М. Чудакова. — Екатеринбург, 2005. — 277 с.
- Чудинов, А. П. Новые русские метафоры [Текст] / А. П. Чудинов // Русская речь. — 2003. -№ 1. — С. 38-41.
- Чудинов, А. П. Новые русские метафоры [Текст] / А. П. Чудинов // Русская речь. — 2003. — № 2. — С. 44-48.
- Шалимова, Ю. М. Функционирование отглагольных существительных на —НИЕ в научном стиле современного русского литературного языка (на материале заголовков научных работ по теме «Словообразование») [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Ю. М. Шалимова. — Волгоград, 2004.-203 с.
- Шарандин, А. Л. Курс лекций по лексической грамматике русского языка: Морфология [Текст] / А. Л. Шарандин. — Тамбов : Изд-во Тамбов, гос. ун-та, 2001. — 312 с.
- Шаталова, 3. И. Множественность словообразовательной структуры имен существительных в современном русском языке [Текст] : дис. … канд. филол. наук / 3. И. Шаталова. — М, 1984. — 234 с.
- Шведова, EL Ю. Предисловие [Текст] / Н. Ю. Шведова // Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений: Т. 1: Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена существительные (Все живое. Земля. Космос) / РАН. Ин-т рус. яз.. ; под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М : Азбуковник, 1998. — С. VII—XXIII.
- Шведова, Н. Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» [Текст] / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. — 1999. — № 1. — С. 3-16.
- Шеметова, Ю. А. Семантический признак «контролируемость / неконтролируемость» (концепт «огонь» — начальный этап исследования) [Текст] / Ю. А. Шеметова И Семантический анализ единиц языка и речи: процессы концептуализации и структура значения. Вторые чтения памяти О. Н. Селиверстовой. — М. : Изд-во МГПУ, 2006. — С. 379-389.
- Шестак, Л. А. Русская языковая личность: коды образной вербализации тезауруса [Текст] : монография / Л. А. Шестак. — Волгоград : Перемена, 2003.-312 с.
- Шигуров, В. В. Переходные явления в области частей речи в синхронном освещении [Текст] : учебное пособие / В. В. Шигуров. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. Саран, филиал, 1988. — 88 с.
- Шкайдерова, Т. В. Советская идеологическая картина мира: субъекты, время, пространство (на материале заголовков газеты «Правда» 30-40-х гг.) [Текст] : дис. … канд. филол. наук / Т. В. Шкайдерова. — Омск, 2007. -237 с.
- Шкуропацкая, М. Г. Метонимические отношения в лексико-семантической системе русского языка [Текст] // Филологические науки. — 2003. — № 4. — С. 69-76.
- Шмелев, А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность [Текст] / А. Д. Шмелев. — М. : Языки славянской культуры, 2002. — 496 с.
- Шмелев, Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка [Текст] / Д. Н. Шмелев. — М. : Просвещение, 1964. — 244 с.
- Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики [Текст] / Д. Н. Шмелев. — 2-е изд., стер. -М.: КомКнига, 2006. — 280 с.
- Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность [Текст] / Л. В. Щерба. — Л.: Наука, 1974. — 428 с.
- Щур, Г. С. Теории поля в лингвистике [Текст] / Г. С. Щур. — М. : Наука, 1974.-255 с.
- Юмашева, Г. Ю. Стилистические изменения в русской лексике конца XX — начала XXI в. (на материале существительного) [Текст] : монография / Г. Ю. Юмашева. — Борисоглебск : Изд-во БГПИ, 2005. — 122 с.
- Юрченко, В. С. Языковое поле: Лингвофилософский очерк [Текст] / В. С. Юрченко. — Саратов : Изд-во СПИ, 1996. — 53 с.
- Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии [Текст] / под ред. 3. Д. Поповой, И. А. Стернина. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2002.-314 с.
- Языковая номинация. Общие вопросы [Текст] / под ред. Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой. — М.: Наука, 1977.-360 с.
- Яковлева, Е. С. О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира [Текст] / Е. С. Яковлева // Вопросы языкознания. — 1993. — №4.-С. 48-62.
- Яковлева, Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) [Текст] / Е. С. Яковлева. — М. : Гнозис, 1994.-344 с.
- Яковлева, Е. С. Отражение в семантике слова личностных знаний говорящего [Текст] / Е. С. Яковлева // Русский язык за рубежом. — 1992. -№ 5.-С. 68-72.
- Baker, Mark С. Lexical Categories: Verbs, Nouns and Adjectives [Text] / Mark C. Baker. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. — 353 p.
- Bogustawska-Tafelska, M. Cognitivism in linguistics. Why sciences are to fall into one interdisciplinary paradigm // New Pathways in Linguistics / edited by S. Puppel, M. Bogustawska-Tafelska. — Olstyn : Institute of Modern Languages and Literature : University of Warmia and Mazury, 2008.-P. 45-60.
- Humboldt, W. v. On Language : on the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species [Text] / Humboldt, Wilhelm von ; Wilhelm von Humboldt ; Ed. by M. Losonsky ; Transl. by P. Heath. — Cambridge : Cambridge University Press, 1999.-296 p.
- Lieber, R. Morphology and Lexical Semantics [Text] / Rochelle Lieber. — Cambridge : Cambridge University Press, 2004. — 196 p.
- Polysemy. Flexible Patterns of Meaning in Mind and Language / Brigitte Nerlich, Zazie Todd, Vimala Herman, David D. Clarke. — New York : Mouton de Gruyter, 2003. — 422 p.
- Ter-Minasova, S. Language, linguistic and life (A view from Russia) [Text] / S. Ter-Minasova. — M. : Humanitarian Knowledge, TEIS, 1996. — 156 p.
- Trudgill, P. Sociolinguistics : An Introduction to Language and Society [Text] / Peter Trudgill. — London : Penguin Books, 1983. — 204 p.
- Whorf, Benjamin. Language, thought and reality [Electronic resource] / Benjamin Whorf. — http://sloan.stanford.edu/mousesite/Secondary/Whorfframe3.html.
Справочники и словари
- Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О. С. Ахманова — 2-е изд., стер. — М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы [Текст] / под ред. Л. Г. Бабенко. — М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.
- Большой толковый словарь русского языка [Текст] / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2001.
- Историко-этимологический словарь современного русского языка [Текст] : в 2 т. / П. Я. Черных. — М.: Рус. яз., 1999.
- Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / под ред. В. Н. Ярцевой. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Русский ассоциативный словарь [Текст] : в 2 т. Т. 1: От стимула к реакции / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. — М.: Астрель : ACT, 2002.
- Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений [Текст] : Т. 1: Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена существительные (Все живое. Земля. Космос) / РАН. Ин-т рус. яз. ; под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: Азбуковник, 1998.
- Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений [Текст] : Т. 3: Имена существительные с абстрактным значением. Бытие. Материя., пространство, время. Связи, отношения, зависимости. Духовный мир. Состояние природы, человека Общество / РАН. Ин-т рус. яз. ; под общей ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: Азбуковник, 2003.
- Словарь современного русского литературного языка [Текст] : в 17 т. / АН СССР. Институт русского языка ; под ред. А. М. Бабкина, Г. Бархударова, Ф. П. Филина и др. -М.-Л.: Наука, 1950-1965.
- Солганик, Г. Я. Стилистический словарь публицистики: Около 6 ООО слов и выражений [Текст] / Г. Я. Солганик. — М. : Русские словари, 1999.
- Тематический словарь русского языка [Текст] / под ред. В. В. Морковкина. — М. : Рус. яз., 2000.
- Толковый словарь русского языка [Текст] : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : ОГИЗ, 1935-1940.
- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов [Текст] / отв. ред. Н. Ю. Шведова. — М. : Азбуковник, 2007.
- Толковый словарь современного русского языка: языковые изменения конца XX столетия [Текст] / под ред. Г. Н. Скляревской. — М. : Астрель : ACT, 2001.
- Фразеологический словарь русского языка [Текст] / под ред. А. И. Молоткова. — М. : Рус. яз., 1986.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1938, январь-декабрь.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1939, январь-декабрь.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1940, январь-декабрь.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1941, январь-декабрь.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1942, январь-декабрь.
- Сталинградская правда [Текст] : газета. — 1943, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 1998, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 1999, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 2000, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 2001, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 2002, январь-декабрь.
- Волгоградская правда [Текст] : газета. — 2003, январь—декабрь.
БТС — Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова.
БТСРС — Большой толковый словарь русских существительных под ред. Л Г. Бабенко.
ВП — газета «Волгоградская правда».
ЛСВ — лексико-семантический вариант.
ЛСГ — лексико-семантическая группа.
ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В. Н. Ярцевой
РАС — Русский ассоциативный словарь под ред. Ю. Н. Караулова.
РСС — Русский семантический словарь под ред. Н. Ю. Шведовой.
СП — газета «Сталинградская правда».
ССП — Стилистический словарь публицистики Г. Я. Солганика.
СУ — Толковый словарь русского языка в 4 т. под ред. Д. Н. Ушакова.
ТГ — тематическая группа.
ТСРЯ — Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов под ред. Н. Ю. Шведовой.
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА»
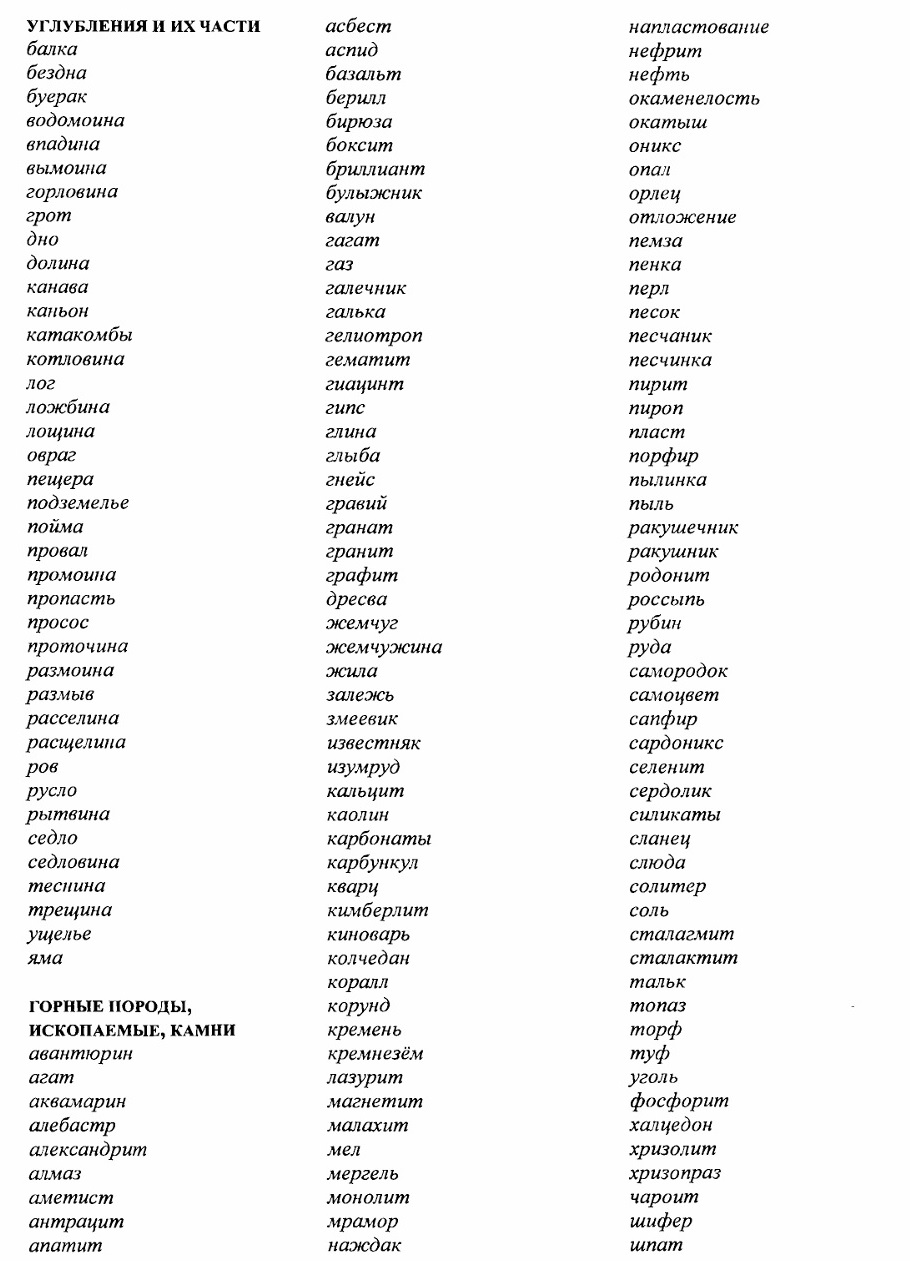
ПРИЛОЖЕНИЕ 2